В тени Водолея (4)
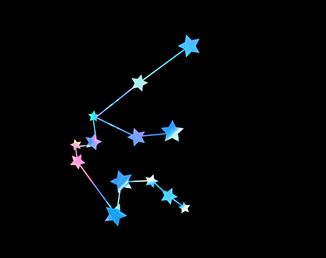
Разбудили когти на крыше; ходят и ходят, скрежеща по железу. Четыре женщины в синей лодке, за черникой, звонкий голос и смех. Читаю по-спартански, лаконизм: как писатель пропускал то, что надо пропустить, не писать, читаю пропуски, паузы, умолчания, звонкую пустоту в кувшине, и душа радуется, дыша гулом этих пустот. Гончар, Амма, книга мира из глины, семь страниц света и семь – тьмы. Любовь к земле; пробудясь, слышу: поскрипывает эта древняя, святая ось. Инвалидное кресло на колесах в саду. Черные маки, эти кивки молчаливых чудовищ. Хор мух, рев рек, мост, плотина, ржавые рычаги, блеск полдня, непрорубная тоска, лопухи, заросли. Толпа на берегу, кого-то ждут с той стороны. Нарастающий гул. Вот он – железный дракон в черно-желтых полосах, поднял ветер, вихрь крутит траву. Крушения, обломки, пузыри. Ураган в Москве, вырванные с корнем, поваленные деревья. В Чили снег. Зодчество облаков. Вещие зеницы во все небо. Колокольчики у железнодорожной насыпи, раскаленные рельсы. Мозг плавится, не вспомнить ни одного имени. Ночью – обмылок. Луна. Магические стекла снов. Испепелен. «Новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением учителей». Давид Бурлюк. Паучок живет один и ткет из своей одинокой жизни тончайшее кружево, чудо мира. Маленький-маленький паучок, совсем незаметный. День Военно-морского флота, парад на Неве, корвет «Стерегущий», хлопки выстрелов. Зной, марево, ни ветерка. Опять рельсы. Финн в спортивных трусах приезжал на велосипеде. У него дача в Новолисине. Душно-лилово. Лилипут в стране вулканов. Аномальная жара в наших широтах, огнедышащая радость с восхода до заката. В Москве + 40. Илиас, чернобородый гигант, пришел красить крышу. В стекле веранды мигнул корень неизвестного растения. Речь в тысячу вольт, высокомерие небесного глагола. Что ему я? Важнее сказать, чем говорить. Август, роса, красный стул в саду. Письмо, слова размыты, не прочитать. Ржавый гвоздь, Роджер Бэкон, Темза, Тауэр, дрожащие жерди мостика через лесной ручей, сон Сципиона, бесследность. Чосер умер в шестьдесят лет от старости. Совесть мучает, спящий орел, нет кипенья, поникли перышки. Поехали в Вырицу за краской. Ночью, наконец-то, прорвало – гроза, ливень. Укол чуда – в сердце. Я вздрагиваю или сад? Блеск стрекозы, стук яблока, испуганное лицо, предсмертные записки мгновенных жизней. Их лавры, их венцы. И вдруг чувствую: сердце-то молчит, замерло от непонятного страха, и вот я кричу ему: ау! ау! А оно не отзывается, далеко ушло или затаилось, нарочно молчит. Сердце у меня – раковина странной, ни на что непохожей формы, таких в мире нет, единственный экземпляр. А внутри кто-то невидимый, неизвестный, дышит, вдох-выдох, прилив-отлив. Успею ли я поймать эту петляющую, ускользающую от меня золотую змейку глубоко-глубоко под веками на зеркальной глади какого-то сумеречного моря (ведь я не сплю, я бодрствую, я только всматриваюсь в свой закат, повернув глаза внутрь). Нет, опять исчезла, испарилась, бесследно, Психея, оставив тревожно дрожать, как лист в ночном саду.
Илиас покрасил крышу. Он мастер на все руки, сделает нам и душевую кабинку на дворе. Жара. Пробую писать, буквы тут же сгорают, превращаясь в пепел. «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения форм проникнуть до глубины содержания». Блок. «В конечном счете все сводится к душе автора; пустота или содержательность зависят в большей мере от субъекта нежели от объекта». Шиллер к Гёте. «Для художника лучше один крик журавля, чем тысяча чириканий воробья. Один цветок лучше, чем сто передает великолепие цветка». Ясунари Кавабата. «У сердца есть свой разум, которого разум не знает». Паскаль. Письма Шостаковича. Шостакович ненавидел мемуарную литературу, переписку свою не берег, уничтожал. Не хотел, чтобы о нем писали воспоминания и опубликовали его письма. На завтра обещают ураган, град. Европу затопило, бури, смерчи, ливни, сносит дома, люди не успевают выбежать наружу.
«Горе – это мрак, радость – это свет, и когда свет достигает предельной высоты, рождается мрак. В этом судьбы людей, идущих по кольцу». Ляо Чжай. Музыка запахов. В Японии слабый, едва уловимый запах ценится больше, чем сильные, пронзительные запахи. «Вы рисуете ветку и слышите, как свистит ветер». Цзинь Нун. Корень глубок, а тайна – вот она, шелестит веткой. Видится и не видится, слышится и не слышится. Незаметное сделать заметным, неясное ясным. Следуй кисти. Дзуйхицу. «Наверное, я постепенно лишился того, что называется инстинктом жизни, животной жаждой. Я живу в мире воспаленных нервов, прозрачный, как лед…Меня преследует мысль о самоубийстве. Только вот никогда раньше природа не казалась мне такой прекрасной! Вам, наверное, будет смешно, покажется парадоксальным: человек, очарованный красотой природы, думает о самоубийстве. Но природа потому сейчас так прекрасна, что отражается в моем последнем взоре». Акутагава Рюноске. Предсмертное письмо.
Рисунок – ритмическое изображение внутренней силы, ци. Ци состоит из цзин и цу. Цзин – тончайшее духовное начало, цу – грубое, материальное. Во Вселенной существует первоначальное ци, и только! Оно проявляется то как инь, то как ян. В живописи следует сторониться шести духов: 1. Дух вульгарности. 2. Дух ремесленничества. 3. Горячность кисти. 4. Небрежность, в искусстве мало изысканности. 5. Дух женских покоев, кисть слабая, нет силы. 6. Пренебрежение тушью. Цзоу И гуй. Ненамеренность, непринужденность, душевный порыв, игра воды. Незнание глубже знания. Тогда незнание – это знание? Разве есть внутреннее и внешнее в прозрачной воде? Разве есть внутреннее и внешнее в пустоте? Когда сочиняешь стихи, не думай, что сочиняешь их. Сайгё. Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Где живут другие, я не живу. Куда идут другие, я не иду. Когда стихи написаны, они становятся клочком бумаги. Басё. Прекрасное родится само, в нужный момент. Важно почувствовать этот момент. Кёрай. Стихи, которые мы сочиняем, разве это истинные слова? Когда пишешь о цветах, ведь не думаешь, что это на самом деле цветы. Когда пишешь о луне, не думаешь о луне. Мы создаем только подобие того, что нам хочется, к чему нас влечет. Упадет красная радуга, и кажется, что бесцветное небо окрасилось. Засветит белое солнце, и пустое небо озаряется. Вот и мы в душе своей, подобной этому небу, окрашиваем разные вещи в разные цвета, не оставляя следов. Сайгё. Если не знаешь неизменного, не имеешь основы, если не знаешь изменчивого, не обновишь стиль. Басё. Истине тесно в словах. Истина вне слов. Пустые места на свитке исполнены большего смысла, чем то, что начертала нам кисть.
Ночной дождь. Обещанной бури нет, чистое небо. «Я не считаю, что лишенное «повествования» произведение лучше всех остальных. И все же с точки зрения «чистоты», т.е. с точки зрения отсутствия вульгарной занимательности – это художественное произведение в наиболее чистом виде. Вульгарной занимательностью я называю интерес к происшествию как таковому. Существует другой, более высокий интерес. Произведение, лишенное «повествования», почти полностью лишено вульгарной занимательности». Акутагава Рюноске. Выхожу в сад на рассвете. Свежесть утра, и это Нечто, в воздухе, как в незапятные времена, миллионы лет назад, весточка оттуда, от древней Земли, Геи, от ее бессмертных, вечно юных уст, дуновение ее могучего дыхания, великой Матери всех живущих. Жучок, паучок, травка, улитка, воробышек устремлены к этому Нечто, к этой туманной свежести. Жара нарастает. Конец света. Купались, облако. Письма Шостаковича. В 30 лет уже жалобы, что стареет, что близка старость; что возникают паузы, перерывы в работе. Не сочинял день или два – и он в ужасе, паника. Ему надо сочинять музыку беспрерывно. Сочинение музыки – вроде недуга – преследует меня. Не спи, не спи. Настрой струну на смертный бой. Георгий Победоносец. Великий Змей, стерегущий сокровище. Художник-химера. Неизящно и немелодично. Фрак, инфаркт, обрыв струны. Приутих наш круг веселый. Правая рука, как плеть, не сыграть даже «чижика». Следопыты в дебрях. Гостья из Сиверской.
Чистое утро. Стою на крыльце, лицом к солнцу. Петушок, тоненький, ломкий голос из-за железной дороги. Десятилетие гибели атомной подводной лодки «Курск». Погиб весь экипаж, 48 человек. Салют, алые гвоздики на океанской воде. У соседей маляры красят дом, узбек и узбечка. Змеистое небо, хвосты энергии. Формо-содержательно, джин в кувшине. Сломалась какая-то пружина в мозгу. Печальная привычка изъясняться знаками. Пишу: «ночь», и мне из-за стены отзывается Что-то, чему нет ни имени, ни названия, и просит меня молчать. Беззвездно. Жара, кремнистый запах раскаленных пустынь. Луч за лучом, штык за штыком; ясная сталь, твердый шаг, верный путь, роковой. Мы забыты, одни на земле. Мы с тобой старики. Только стены, да книги, да дни. Страшной памятью сердце полно. Только вышли за калитку – потемнело, черно, вихрь налетел, закрутил пыль на дороге, деревья зашатались. Нет уж, лучше вернемся в дом, закроем форточки. Повалены столбы, оборваны провода, сидим во тьме, без электричества. Легли. Фары бьют в окна. Рука грозы рисует молниями с нечеловеческой быстротой, миллионы линий в секунду. Что она хочет сказать? Этот замысел недоступен. Друг, друг, я ведь дух. Слышу шаги дождя по листьям в саду, легкие-легкие, нежные-нежные, лечащие. Соль языка испаряется под одиннадцатым знаком зодиака. Как узнаешь об этих утратах на страницах пресноводных книг? Петрарка, стерто, груз имени, библиофилия, монастыри, старые пергаменты. Безвозвратно утраченный трактат Цицерона «О славе», был в его руках, единственный экземпляр, не переписал, дал почитать другу. В Вырицу, купили растворитель, гвозди, хлеб, мясо, рыбу, творог, сметану, масло. Ждем поезда на мокрой платформе. Опять дождь. И ночью. Барабанит по крыше водяными палочками. Разбудил голос за стеной, бормотанье, ее мать, несчастная, слепая старуха. Сидит на лавке, скелет, смех сумасшедшего, похожий на плач, говорит, что у нее сегодня первая брачная ночь. С трудом уложил в постель. Хохочет беззубым ртом, слепые бельма.
Голос забытых книг. Матово-красный камень, ртутная руда. Да мы с тобой теперь миллионеры, друг Томми! Циклон-дракон, ледяное дыхание из космоса. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Брюссельское кружево, узор, воздух, проколы, глаголы. Демон чтения, зверь в шкуре письмен. Пляска шамана, солью опалены волосы. Отключилось электричество, полгорода без света. Встали поезда, электрички. Люди в метро добирались до выхода по туннелю. Петрарка, спасаясь от бандитов, упал с седла, сломал руку. Его домик-садик в Воклюзе под Авиньоном. Его «Тайное», «Secretum». Нашел в монастыре, в Парме письма Цицерона, отсыревший, заплесневелый пергамент, гниль. Книга, о которой давно бредил. Единственный экземпляр. Какое счастье! Опоздай на год, на полгода – и книга бы пропала навсегда. Переписывал три месяца. В полном блаженстве. Библиотека Петрарки – несколько сот книг, древние античные авторы. Из современных писателей – ничтожная часть. Вообще их не читал, и знать их не желал, не прочитал ни одной книги из современной литературы, ни одного писателя, как будто их и не существовало, с презрением о них отзывался. Не смог дочитать Данте, его «Божественную комедию», скука. К схоластике – ничего, кроме отвращения и ненависти. Отрицал Аристотеля и предпочитал ему Платона. Но из Платона у него был только «Тимей», вот над ним и горбился. Писал за пультом, по краям которого торчало два спиленных бычьих рога. В одном черные чернила, в другом – красные. Пучок гусиных перьев и свинцовый грифель – линовать пергамент. Петрарка писал каллиграфически. Все писатели того времени были каллиграфы. Сам переписывал свои книги, а также и чужие, из любимых античных авторов. Увенчан лаврами на Капитолии. Европейская слава. В Вырицу, купили крестовую отвертку, гвозди, помидоров, лука, ночной горшок. Ветер, яблоки падают со стуком, как железные. Одноразовый организм, миражи, дуновение чумы. Все, что есть сейчас в мире, и все, что когда-либо было и когда-либо будет, – присутствует здесь, в этом месте, в этот миг, в блеске этой паутинки в саду. Собака лает на дороге; луна, желтая, жуткая. Не уснуть. Она и ее слепая мать, их громкие голоса за стеной, крик и плач. И поднял я глаза мои, и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. Кто ты, Гора? Взор объемлет всю землю. Петрарка, Милан, Венеция. Том Цицерона, тяжелый, как железо, фолиант, ни с того, ни с сего упал на ногу, два раза. Нога распухла и загноилась, слег в постель. «За что ты меня бьешь, Марк?». Путь к морю, Неаполь, там друг Боккаччо, бедняга Джованни. Ди Чертальдо. Монах напугал, требует сжечь рукописи и думать о спасении души. Петрарка уничтожил все свои письма на итальянском, оставил только написанные латынью, отредактировав, чтобы предстать перед потомством в героическом виде, и ни в коем случае не обнаженным, а если уже обнаженным, то как древнегреческая статуя. Петрарка умер над книгою с пером в руке. Голова лежала на раскрытой странице. Кончить писать и умереть в один миг. В мае 1630 года монах фра Томазо Мартинелли украл из саркофага правую руку Петрарки. Эта рука очутилась в Мадриде и теперь хранится в музее в мраморной урне. Петрарка был высокого роста 1.83, правая нога на один сантиметр короче левой. Крупный нос, большой череп. Мозг намного превышал средний вес. Уехала в город. Остался с ее слепой матерью за стеной. Посреди ночи проснулся от страшного вопля: «Помогите!». Вхожу. Сидит на постели и пытается снять через голову ночную рубашку. Ей мнится, что ее душит ворот, все туже и туже сжимая шею.
Полнолуние. Вслушиваюсь: звучит ли еще тот первоначальный звук, которым все создано, та чистая нота? Тень сарая, черные доски, угрюмый час. Вхожу в дом. Ее мать сидит на стуле. Слепая старуха под 90 лет. Говорит, повернув голову в мою сторону: «А вы мне нравитесь. Вы высокий, плечистый. Настоящий мужчина. Мне предложили выйти за вас замуж, и я согласилась». Ей кажется, что она юная девушка, мечтает о замужестве. Я для нее незнакомец. По моему голосу представляет, что мне лет тридцать, что я сильный, высокий, смелый. Она в восхищении от моих достоинств. В Нижнем Тагиле однорукий инвалид-пенсионер застрелил из ружья трех чиновников пенсионного отдела. Много лет добивался, чтобы ему увеличили пенсию. Потерял руку по вине завода, на котором работал. Суд постановил выплатить ему 250 тысяч рублей и втрое увеличить пенсию. Он предъявил постановление суда чиновникам. Разговор не получился. Двоих убил, одну тяжело ранил. Потом застрелился сам. В Смоленске в 2001 году маньяк-убийца убивал, изнасиловав, высоких девушек блондинок, душил черной шелковой лентой, затем завязывал ее бантом на шее задушенной жертвы. Десять девушек. Из-за несчастной любви: изменила, пока он служил в армии. Высокого роста блондинка. Утро, бреюсь. Морщин прибавилось. Позвонила, не приедет. Соседка, латышка, светловолосая, просит лестницу – чинить крышу. Вздымалась грудь ее волною. Краткодневен и пресыщен. Ранневизантийский поэт Нонн. Гарсиласо де ла Вега. Фернандо де Эррера. Тереса де Хесус. Чертоги, замки, крылатые мосты, скоропись, смутен, тысячеуст. Всю ночь барабан дождя. И пошел пророк, и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, – великий сонм возвратится сюда. Сижу, мыслишки. Книгу пишет гроза внутри автора, книга – шаровая молния, раскаленная сфера с температурой, превышающей температуру солнца, в ней герои и персонажи, идиот, Лев Мышкин, перед грозой, его предчувствие, состояние, жуткий накал, напряжение, нарастание, насыщенный электричеством воздух… И вот она – гроза! Разразилась! Разряд! Припадок падучей на лестнице в гостинице. Нож Рогожина, занесенный над ним, молнией во мраке. Автор внутри грозы или гроза внутри автора? Имею ли я мировое право не творить ужасного? Блок. Садовник, цветок себя; сила древнего семечка, из пупа Вишну вырастает невыразимо прекрасный, небесный лотос, а на лотосе восседает Брахма. Ночь духа. Ничто. Чтобы всем обладать, не имей ничего; чтобы сделаться всем, будь ничем. На титульном листе первого издания «Дон Кихота» латинский девиз: «После мрака ожидаю света».
Пьяный велосипедист на дороге. Пусть забудет его утроба матери; пусть лакомится им червь; пусть не останется о нем память. Снилось: куда-то едем, с вокзала, несу бутылку шампанского в кастрюле. Выронил, шампанское разбилось. Хорошо, что в кастрюле, можно выпить и так, с осколками. Попробовал: нет, не получается, губы порежешь. Идем, Фонтанка, черно, чугун. Негде ночевать. Постелила в лодке. Благодарю вас. А, может быть, есть другой выход из этого прискорбного положения?.. Опять в городе. Холод, мрак, фонари, наплыв беспричинного ужаса. Страшно взглянуть на горящие электричеством окна. Тарковский, «Сталкер». Свист поезда, стук колес, стол дрожит, стакан с недопитым чаем, как живой, рывками движется к краю. Сын погибели. То ли девочка, то ли мальчик. Помылся под душем. Спать. Судороги в ногах, боль, волком вой. Валокордин. Невский, в книжном, максимы Наполеона, грудастая, преградила путь: что у вас в кармане? Верю в гармонию сфер. Они так красиво поют! Ангельскими голосами! Их семь, из горного хрусталя, в руке Пифагора. Столпи небесные прострошася и ужасошася. Пастернак в Чистополе, зима, Шекспир, патефон весь день на кухне у хозяев. На Марсе открыли метан. Два спутника Марса, Фобус и Деймус, страх и ужас. Последний листик августа. Все тот же холод. Борей сорвался с цепей в пещере. И восплещет нань рукама своима и возьмет с шумом от места своего. Кит и его рыбка прилипала. Не мог вспомнить имя. Лег спать. Нет, не уснуть, мучает, что не вспомнить. Встал, нашел в книге: Магритт. Успокоился. Твердя, Магритт, Магритт, заснул.
21 годовщина нашей свадьбы. Молилась, стоя на коленях у гробницы Серафима Вырицкого. Ждал снаружи. Холодно, солнце, пирожки с луком. Чувство, что я в любой миг свободен от всего и вся, от всего приобретенного. Гол сокол. Сброшенная шкура. Один, сам по себе, с зияющей пустотой в сердце. Ничего у меня и во мне нет. Я в нуле. Я всегда в нуле, в начале и конце всего, в ускользающей точке свободы. Непоколебим. Неуловим. Низкий и нищий. Нерожденный. Дождь, буря, дух. Молния вязнет в земле. Я Вас любил. Анна под поезд. Книга гор и морей, Шань хай цзин. Змеистый шелест этих страниц из «Героя нашего времени». Прояснение. Наяву или во сне. Блеснет золотой волосок – единственно верный путь. Паутинка в осеннем небе. И вот я иду по этому волоску. Кто-то меня ведет. Вэньчан. Это называется – путь паутинки. И я знаю: этот ускользающий из-под ног путь-паутинка на Страшном суде слова будет Верховный судья, он-то и будет решать: кому направо, кому налево. А его уже и нет, паутинка-то пропала. Паутинка-волосинка. Темно кругом, тучи, беспутье, распутица. И я опять один, сам с собой, и не знаю, куда идти. А кто-то мне говорит: да ты не сомневайся! Иди туда, не знаю, куда; найди то, не знаю, что. Уехала с матерью в город. Один в доме. Жарко натопил печь. Ночь. Тихо, глухо. Глаголы уст Его храню. Хмель-хмелина, зверь-зверина, лоб-лбина, пес-псина. Из-за решетки слов глядит Кто-то орлиным взором. О, страшных песен сих не пой про древний хаос, про родимый… Слово сферично, мы всегда внутри Слова, всегда в центре Слова. Мы всегда меньше Слова. Слиться со Словом, стать Словом. Молния из центра на один миг соединяет нас со всем Словом. О, лебедиво! О, озари!
Уж небо осенью дышало. Утром нашел на дворе около умывальника мертвого воробышка. Похоронил в саду под сливой. Кому ты говорил эти слова и чей дух исходил из тебя? От духа Его – великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь? Силою своею волнует море и разумом Своим сражает его дерзость. Бреду по лесной дороге; тепло, облака, листья летят, рябина красная. Бабье лето. Большие цели, большие примеры. До трагедии ли нашему черствому веку? Размагниченность. Доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих. Зеркало около умывальника во дворе, чуть запотелое, я в синей рубашке, волосы зачесаны назад, седоватые у висков, слегка развеваются в дуновении ветра, сад, изгородь, высокие, желтые цветы колышутся. Автопортрет мгновенья. Восплещут о нем руками и посвищут над ним с места его. Пушкин в русской красной рубахе, подпоясанной ремнем, с палкой, в шляпе, на ярмарке. Вульф пишет, что так он нарядился один единственный раз и этим скандализировал весь бомонд. При его-то светскости и байронизме. Ткацкий станок, Гёте. Ценная монетка, профиль стерт. Сад после дождя, краснобокие яблоки в каплях. Сжаться в точку, вернуться в центр, там прячутся ритм, имя и форма, и не желают выходить наружу, под дождь и ветер. В местах, забытых ногою. Всё драгоценное видит глаз его. Но где премудрость обитается и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит: «не во мне она», и море говорит: «не у меня».
Чехов, его восхищение «Таманью» и «Капитанской дочкой». Подводное свечение этой прозы, сумеречный, серебристый отсвет. Заячий тулупчик, Гринев, кавалер де Грие. Грация – изящная краткость; точность чарующего. Художник бедный слова, чан Диониса. Мастер, выйдя из центра Желтого, движется сразу в четыре стороны – к Зеленому, Красному, Белому и Черному. Уста его замкнуты, в правой руке циркуль, в левой отвес. Многоглавое дерево, корни в сердце первопредка. Адам Кадмон. Проснулся посреди ночи от звука, как будто что-то треснуло. Тихий такой треск. Что бы это могло быть? Лопнул какой-то шовчик на другом краю Вселенной? Плюс ищет свой минус. В яйце брезжит зародыш. Кто ты, птенчик?.. Заблудился в сумрачном лесу. Туманный день, козы на дороге, с фермы, их таинственное «ме» из Шумера. Молочница, филологиня, родом с Волги, ее семь дворов и семь ворот. Чтобы пройти, надо снять с себя всю одежду и украшения. В полнолуние встань голый на перекрестке с круглым зеркалом в левой руке, увидишь свою смерть. Не забудь, Аристотель, очищение, шестая глава, жалость и скорбь. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. В стране теней они пробуют призрачный звук на вкус. Осенний лист летит за окном вагона. Все мы умираем неизвестными. Слава – солнце мертвых.
Опять в городе. Утро, забытое молоко на подоконнике. Собачка наша разродилась; пять щенков, два желтых, три черных, еще слепые, сосунки. Создание с девятью отверстиями, пишет в манере доселе неизвестной. Эти узоры проступают изнутри солью изморози на панцире, на скорлупе, на камнях, на листьях травы, на странице. Они от меня не зависят. Рыцарь бедный, под броней только сердце. Помолиться о форме. Слова столпились в кучу, не видно леса. Вар, Вар, верни мне мои легионы! Боль в виске. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Таинственная… Какое длинное и бесконечно чудесное слово. Ни одного «р», и – «печально», и «обнажалась». Лесов – инст-сень-аль-лась. И еще эти – а-а-а – такие долгие, так долго и печально обнажалась. И – ложился на поля туман. Так просто, так обыкновенно и так дивно. Опять ни одного «р». Эти ло-ился-ля, эти на-ан, и – а-а-а. Именно – «ложился», именно – «на поля», именно – «туман». А это «туман» – какое туманное, большое, плотное, емкое слово, как оно, туманно клубясь, опускается, опускается, на поля, на поля… И – гусей крикливых караван тянулся к югу… У! – какое длинное-длинное и тонкое-тонкое «тяну-у-у-у-лся к ю-ю-ю-гу…». Эта бесконечная ниточка, и это гу-гу, в начале и в конце – гусей-югу. Безумно красиво. Именно это сочетание звуков, рисующих именно эту картину. И – приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Ведь именно – ноябрь. Не оттого, что – по смыслу. Тут дело не в смысле, а в том, что – «довольно». Есть это «но», значит, надо, чтобы было еще одно «но», там, дальше, через некое пространство и время, то есть именно «ноябрь». А поставь вместо «ноябрь» «октябрь» – и все рухнуло, вся эта красота. От одного неверно взятого ( в строке, строфе) звука рушится весь мир. Не метафорически, а буквально, физически. Также, как рушится снежинка, утратив свой узор, свою кристаллическую красоту, свое хрупкое чудо, а вместе с ней, всякий раз (с гибелью одной снежинки) рушится и все мироздание, весь космос. Потому что все это – одно Создание, создано одной Рукой, одна плоть. У слов та же плоть, и эта плоть слова – такое же хрупкое чудо, как и у снежинки. И каждое слово создано той же Рукой. И живая плоть фразы, строки, стихотворения, поэмы, книги. Узор, вэнь, мир-книга. И в этом Узоре, в этой Книге, в этом Кристалле мира нельзя произвольно менять, ни звука, ни буквы. Я слышу: всякий раз при неверно взятой, фальшивой ноте содрогается и вскрикивает от внезапной боли весь мир, как смертельно раненый, и я содрогаюсь и вскрикиваю вместе с ним. И как же мне не страдать – ведь это же для меня единственное, чем ценен мир, чем он диво и чудо, из-за чего я еще здесь и не спешу уходить.
Показать, скрыв. Показать, не показывая. Спрячь белое в черном. Сквозь маску – звезды. Твердое слово «дорога». Прокрасться, вычеркнуться. Лермонтова должны были назвать Петр или Юрий. Так было принято называть мальчиков в роду его отца, в роду Лермонтовых. Бабка пересилила, назвала по роду Арсеньевых, по деду, Михаилом. Троица: резец, ряса, рынок. Погыбе память его с шумом. Возносяй мя от врат смертных. Проснулся в семь. Мглисто, листья. Лишь паутинки тонкий волос блестит на праздной борозде. И действительно: как блестят эти два «з» в этой паутинке. Унылая пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Тут ведь шелест – эти п-р-с-ч-щ-ш. А в конце «б» и «з» дают блеск. И преклони небеса и сниде, и мрак под ногама Его. ( Наклонил Он небеса и сошел – и мрак под ногами Его). И взыде на херувимы и лете, лете на крилу ветреню. ( И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра). Вот и сравни. Имеющий уши да услышит. Что происходит при переводе. Изменяется тело слова, плоть и кровь слова. А с ними – и душа и дух. А с ними – и смысл и суть. Потому что каждая фраза, каждая строка – это единое Слово, единая Плоть. Имя Бога, Змей, Нирах, Номмо, Фанес, сияющий, неизменный. Слово, змея, спираль, нить, узор, вэнь, первый язык мира. Утешься, друг Петрушка, погибай в балагане. Понедельник, дождь, буря, вихрь. В Пушкинский дом, любомудры. Укиё, быстро текущий. Студенты на остановке, Нева, Исаакий, золотой сон. Пятница. Щенков увезли. Пусто в квартире. Грустим. В ЦГАЛИ, сдать архив. Гора с плеч. Дождь, холод, листья, осень, Нева, машины, шум этот, ремонт, огорожено, фасады в «лесах». Нащупать нить. Ломоносов, новые слова: маятник, чертеж, насос, созвездие. Карамзин: человечность, сердечность, трогательный. Карл Брюллов: отсебятина. Достоевский: стушеваться (очень этим гордился). Крученых: заумь. Игорь Северянин: бездарь. Хлебников: летчик. Лезем в потайной карман языка за словом. Режиссер Ростоцкий. Печорин – Ивашёв, слепой – Бурляев, ундина – Светличная. Идем в аптеку, сумерки, пруд, мост, утки. Между домов, желтые клены. Вдруг зашуршало. «Что это? Дождь?» – спрашивает. Смотрю: нет, снег! Крупа. Так и сыплет, так и сыплет! Уже вся дорожка у нас под ногами белая. И как все осветилось вокруг!
Четверг, писец, Набу, грифель из Шумера. Эта рыба не умещается в море; умаляясь, она превращается в знак на стене катакомб. Сокрушительная свежесть вулканических извержений. Рим, арка Адриана. Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься? На выставку Ю.Медведева. Васильевский остров, Большой пр. 62. Мрак, дождь. Алексеев, Тропников. Бокалы с вином на столике. Ее тревоги. Пятница, прялка, изгибы, извивы, тонкие дела, веретено. Брось в колодец. «Все складывалось так, чтобы убедить его самого в полной своей бездарности». Волошин о Богачевском. Звонил Алексеев, святой в венце вина. 140 лет со дня рождения Бунина. Ночью буря. Дух пишет, где хочет, перышком вороньим на полях. Сжатый кислород. Не уснуть. Стук часов на столе, это он нагоняет страх и ужас. Заостренная стрелка секунды, пульс ночей и дней, душа в пятках. Эх ты, Ахиллес! Среда, котельная, Шельвах, Костя Крикунов, посмертный том. Артистический жар, повышенная температура, как всегда, как всегда. Андрей Белый, 130 лет со дня рождения. Ни букета, ни портрета. Метро Чернышевская, песнь творити. Северная Аврора, Лукин, свет в окне, проблеск; выстрел с моей публикацией готовится не за горами.
Ноябрь, дождь. Дом Державина, концерт. Вышли, темно, брусчатка во дворе. На Фонтанку, через мост. Твой день и твоя ночь. Собрание пишущих вилами на воде, плетущих корзины извилистых витийств. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Приснился Оредеж, лето, яркий солнечный день, сижу на берегу, быстро-быстро пишу в текучем, сияющем свитке, и поток уносит мои письмена. А я пишу и пишу, нельзя не писать, нельзя перестать записывать ни на минуту. Так велит мне мой Повелитель. Я должен писать до последнего вдоха. Московский пр., Парк Победы. Блок, 130 лет со дня рождения, концерт. Галина Дюмонд. «Незнакомка», юноши и девушки из театральной студии. В квартире грусть. Хризантемы на столе. Снегопад, в церковь, память Марии Афанасьевны. Запах из пекарни. Николай Харита, автор романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Красавец, высокий, стройный, сердцеед, женщины его обожали. Жил в Киеве. Убит каким-то бароном-ревнивцем, застрелен на выходе из ресторана. Ночью буря, дождь. Лев Толстой, сто лет со дня смерти. Писатель, двуликий, раздвоение личности, пропасть внутри, а мостика нет. На кладбище в Красное Село. Память мамы. Голые, черные клены, земля, дождь. На обратном пути поссорились. Опять предложила расстаться. Вот уже третий год твердит как заклинание: расстаться, расстаться. Ее слепая мать снова кричала ночью. Подняли с пола. Одна и та же галлюцинация: как будто она лежит на улице, на рельсах, и ее сейчас зарежет трамвай. И нам никак не убедить ее, что это ей только грезится. Так у нас теперь чуть ли не каждую ночь. Метель, экстремально, эквилибрист на шаре. Яблочко, куда котишься? Играй на одной струне. Сестричка смерть. Мороз. Нарвские ворота, канцтовары, лента для пишущей машинки. Тротуар перед магазином оцеплен оранжевыми флажками; три узбечки орут, чтоб шел прочь, пока цел. С крыши сбрасывают снежную лавину. Умерла Белла Ахмадулина. Звонок судьбы: начнет печатать мою книгу в своем журнале.
Концерт в университете. Чернышев с женой, шампанское. Лыжи, метель, сумерки, колючки репейника в белых шапочках, решетка ограды, шахматисты в тулупах под синим навесом, спортплощадка, турник, шум шоссе. Вечером к Старовойтовым, вино. Обратно через парк, нес на плече две пары подаренных нам новых лыж, она – мешок с лыжными ботинками. Адская ночь. В квартире под нами опять оргия. Концерт в музее театрального искусства. Чернышев с женой и мы. Флейтистка. Мороз, метель, переулок Крылова, продувная труба. Оглянулся: Пушкинский театр в метели, озаренный фонарями. Рух: разруха, проруха, старуха. Украинская газета. Можно ли трезвой то высказать силой ума, что опьяненному муза прошепчет сама? Злая лающая Парка. Оттепель. Идем в аптеку на Дачный проспект, буран, снег в лицо. Большая очередь, человек двадцать. Говорят: это еще что, бывает, и на улице стоят. На рынок, купили рыбу, пикшу, картошки 4 кг., из Волосова, морковь, груши. Книжный вагончик у метро, продавщица в тулупе, занесенные снегом книги. Умер Коля. Запой. Пил десять дней, никому не открывал дверь в квартиру. 43 года. Всю ночь буран. Дом писателя, вручение премий молодым поэтам и прозаикам. Н.Н.: «Надо почаще упоминать обо всех вас, чтобы что-то сдвинулось». Лыжи при месяце. Ветер сдувает с ветвей седые космы. Ушла на собрание жильцов, расселение «хрущовок». Мастер игры в го, проиграл последнюю партию и, не вынеся позора, умер, в 64 года. Письма А.Белого, вопли черного отчаянья. Места силы, Жар-птица в волшебном саду, феерия искусств. Магические заклинания, начертанные древними иероглифами внутри бронзовых кувшинов. Вся земля моя и мне дано пройти по ней. Аполлоний Тианский. Поехала в СОБЕС. Звонок, забыла документы. Нарвские ворота, жуткие, зеленые, филоновские. Толпа, тускло, собаки на снегу. Зашли в кондитерскую у метро; а коврижек, каких ей хочется, нет. Приходите завтра. Дом писателя. Набросились: такой я и сякой, мозаист, пуантилист. Я был спокоен, как лед на Эльбрусе. Болевой писатель, закрученный. И показала рукой вверх, смерчеобразно, как я закручен. Мороз. Фонари. Смотрю в безрадужную мглу. Лунное затмение в ночь на 21 декабря. Смерть и живот в руце языка… Вода глубока – слово в сердце мужа. На Невский, ей хочется посмотреть, как украшено к Новому году. Лиловенько, в сосульках. Заглянули в Книжную лавку. Книги мои лежат железно, как в саркофаге, до Страшного суда. В Пассаж, она скоро. Жду снаружи. Полнолуние, мороз, толпа. Александр Тихомиров, художник, одноглазый. Магнитная стрелка указывает на неизвестную звезду на Дальнем севере. Ацтеки. Золото – испражнение богов. А вот будет время, когда каждый человек, чтобы услышать одну ноту из моих творений, будет скакать с одного полюса на другой. Скрябин. Купил елку, колючая, ах, как пахнет! Слава Божия крыет слово. Погряз в книгах. Закат. Прощай, уголек! Безрадостные дни, от года-то хвостик остался. Огни, мрак, дома, брести куда-то, месить эту кашу. Все равно не хватит силы дотащиться до конца. Игрушка-погремушка над ухом. Слава мира. Иди домой и ничего не жди. Пиши, пиши, червячок, стар и страшен, провидец божьих чудес. Тускло, мороз. Звонил Алексеев. В кондитерскую за тортом, Саша, пьяненький. Новый год вдвоем.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

