Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
Все возвращается на круги своя? Возможно ли? Герой, от лица которого ведется повествование, казалось бы, становится хозяином собственной судьбы. Но какой ценой? Где родные? Где друзья? Где Стефан, Ганс? Где Кора, наконец?
Поэзия и смерть. Существует ли первая без второй? Ответ на этот и другие вопросы, быть может, отыщется в интервью
с автором.
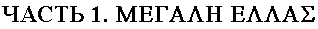 |
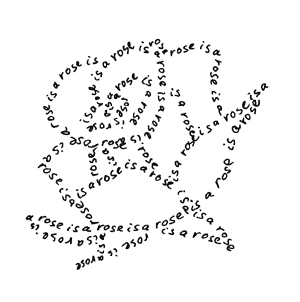 |
У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы оправиться от трагедии с
Сандрой, наложившейся на главную трагедию. Квартира была
осквернена, и я переселился в другую. Дом был колоритным и
дешевым.
Но дом продали, продали целиком, едва я успел переселиться. Новый
хозяин намеревался полностью перестроить его, и мне опять
пришлось переезжать. Быть может, квартирные неурядицы невольно
повлияли на то, что в состоянии моего духа наступил перепад.
Я все еще чувствовал себя неизлечимо больным, но решил
провести последние, как мне казалось, месяцы жизни наиприятнейшим
образом, не отказывая себе ни в каких, самых
экстравагантных желаниях, если мне удастся вызвать их у себя, то есть,
попросту, стать эпикурейцем.
Я нанял через маклера прекрасную квартиру, окна гостиной которой
выходили на главную площадь, а прочие — в живописный старый
двор. Квартира эта, вне всяких сомнений, была бы мне не по
карману, если бы я собирался в ней жить, а не умирать. Тому же,
кто собирается умирать, все по карману. Я перепробовал самые
изысканные деликатесы. Я купил несколько антикварных
безделушек. Я перестал ходить по врачам. Я обзавелся элегантной
одеждой. Я ничего не делал. Я здесь умру,— почувствовал я.
Даже если это произойдет не в этих стенах, а где–нибудь
снаружи, все эти вещи будут находиться здесь, когда я умру.
Сосредоточенно созерцая статуэтку, на которой изящная юная нимфа с
микенской прической склонялась долу, с тем чтобы сорвать с
мраморного подножия мраморный же цветок, я подумывал даже о
завещании и решил составить его в пользу Коры, чтобы у нее
всегда была возможность сказать какому–нибудь поклоннику
покачественнее меня, внезапно приглашающему ее, скажем, на Яву:
— Да–да, у меня как раз есть деньги, которые нужно потратить на
удовольствия, иначе они принесут несчастье.
Как–то, всего лишь оттого, что мне этого захотелось, я взялся за
свои старые записи, к которым не притрагивался больше года. Они
еще больше расстроили меня. То, что прежде представлялось
мудрым и совершенным по форме, теперь выглядело плоско и
по–школярски. Я решил никогда не публиковать этого, хотя мне
почему–то и не хватило духа это выбросить. Нужно ли жечь
рукописи? — в мире предостаточно мусорных свалок. Я и в самом деле
не опубликовал ничего из раннего, но среди ювенильного
хлама я нашел фразу, одну–единственную фразу, которая показалась
мне хорошей. Она заставила меня взяться за перо и потянула
за собой другие фразы, сначала одиночные и вымученные, но
очень скоро превратившиеся в неудержимый словесный поток,
который едва успевал оседать на бумаге. Я забывал о сне и еде,
благо некому было напомнить мне о них. Просыпаясь, я
соображал, что уже достаточно окреп для того, чтобы отправиться
путешествовать, но сейчас мне нельзя было трогаться с места по
другой причине — я должен был писать.
Неожиданно позвонили из агенства по недвижимости и сообщили, что
квартирная хозяйка прибыла из–за океана и хочет со мной
встретиться. Я возмутился. Мне было обещано, что без нужды меня
тревожить не станут, к тому же, я заплатил за год вперед, это
было значительно дешевле. Похоже, в глубине души, я не
исключал возможности исцеления, если смог думать тогда об
экономии. Однако, делать было нечего, никто не мог запретить хозяйке
навестить жильца, и я стал покорно ждать визита.
Нужно ли убирать квартиру? — задумался я. С одной стороны,
квартирная хозяйка вряд ли будет счастлива, увидев свой кровный
паркет, не мытым полгода. С другой стороны, мне на это наплевать.
С третьей стороны, она все же дама, а дам следует уважать.
Не обнаружив в предмете своего размышления четвертой
стороны, я оставил сомнения и обреченно взялся за тряпки. Через
полчаса я убедился, что труды мои напрасны, ибо никак не влияют
на чистоту пола и, следовательно, на мое уважение к дамам,
и зашвырнул тряпки в чулан.
Моя гостья, то есть, моя хозяйка, была бы похожа на маменьку
Стефана, если бы не отличалась от нее чем–то неуловимым,
присутствия чего, между тем, вполне достаточно, чтобы не говорить
более о портретном сходстве: гостья была абсолютной и
стопроцентной дамой.
Она вошла с достоинством, умышленно или непроизвольно не замечая
позорных разводов грязи и умея смотреть как–то поверх них,
интеллигентно и одобрительно оглядела кабинетный рояль, который
я с жуткими мучениями таскал за собой, антикварные вещички,
книги. Взгляд ее остановился на мамином портрете.
— Как мило,— сказала она,— это явный оригинал. Чьей это кисти? Можно
мне рассмотреть поближе?
Дама прошествовала к картине, тяжеловато постукивая тонкими
каблучками, и уставилась через очки на подпись в нижнем правом углу.
Отец всегда подписывался полным именем, четкими крупными
буквами.
— Как, это его картина? Да это целое состояние, мой юный друг! Но
это совсем не его манера! — восклицала дама.
Дама была мне скорее симпатична и так умиляла своей восторженностью,
что у меня возникло шаловливое желание заставить ее
восторгаться еще сильнее.
— Портрет работы моего отца,— смиренно отвечал я,— и писан с моей
матери. Это из ранних полотен отца.
— Как, вы его сын?! Какое счастье, мне не удалось познакомиться с
вашим отцом, но взамен Господь послал мне вас! Он был моим
любимым художником, в его поколении не было равных ему.
Как странно, думал я, такая положительная пожилая дама и без ума от
модерна. Впрочем, этот модерн был модерном во времена ее
молодости, которая пришлась на годы послевоенной элегантности и
свободы. Дама была старше моих родителей, она застала
начало прекрасной эпохи.
— Ах, какая семья! — восторгалась дама,— отец ваш, я знаю,
трагически погиб, какое это было несчастье для нашей культуры!
— Да, давно погиб.
— А как поживает ваша маменька, она, ведь, кажется, музыкант? —
сладеньким голоском продолжала дама салонную беседу.
— Мама недавно умерла,— ответил я довольно сурово, поскольку не
любил подобных разговоров.
— Как жаль! А вы чем занимаетесь, молодой человек? — не смутилась собеседница.
— Я писатель,— ответил я впервые в жизни, да еще с
нахально–самоуверенными интонациями.
— Ах,— вздохнула дама,— все музы посетили несчастную эту семью!
Наконец, дама вспомнила, зачем пришла, и сообщила, что собирается
продавать квартиру, чтобы окончательно перебраться к сыну,
превосходно устроившемуся при Голливуде. «Все звезды бывают у
нас»,— с гордостью сообщила она. Да, она знает, что у меня
контракт еще на полгода и оплачено вперед. Она не собирается
делать мне ничего плохого, более того, у нее есть для меня
выгодное предложение. Она берется уступить мне квартиру за
картину моего отца и небольшие, прилагаемые к ней деньги.
Менее всего я планировал опять обзаводиться недвижимостью. Кроме
того, эта квартира никогда не смогла бы стать совершенно моей,—
в ней уже поселилось страдание. Но книгу требовалось
закончить и переезжать, с роялем подмышкой, мне тоже не хотелось.
Восторженная дама могла немедленно расторгнуть контракт,
выплатив мне неустойку. Упомянутые «небольшие деньги»
превосходили мои ресурсы, о чем я поспешил доложить, как и о том, что
в мои планы никак не входит покупка квартиры. Дама тут же
спустила цену.
— Вы правильно сделали, перебравшись в метрополию, мой друг,
провинция подавляет, даже очень хорошая провинция, а эта квартира
очень подходит для писателя,— заговорщицким тоном сообщила
она, немало смутив меня. Квартира, под окнами которой шумела
нарядная толпа, а под другими располагался итальянский дворик
со старинным, кружевной решеткой одетым колодцем, в самом
деле, хорошо подходила для писателя. Что остается мне, если
вопрос, какая квартира подходит для писателя, а какая нет,—
существенный, признаться, вопрос — вполне может быть разрешен
светской, без определенных занятий, пожилой дамой?
Я вспомнил мамины слова: «Все материальное в тебе от отца» и
согласился, восхищаясь тем, что остались еще люди, способные
променять квартиру на картину, ах, очень сомнительных к тому же
эстетических достоинств. Я не испытывал угрызений совести,
никто никогда не завещал мне беречь эти полотна, как зеницу
ока, к тому же, рассуждал я, вероятно, я скоро умру, и картины,
а также прочие вещи, все равно перейдут в чужие руки. А
теперь мне нужно еще полгода спокойствия, чтобы закончить
книгу.
Мамин портрет я отдать не мог, да дама на него и не претендовала, не
только оттого, что была дамой, но оттого также, что отец,
когда писал его, еще не был отцом, то есть, я хочу сказать,
отцом он уже, видимо, отчасти был, но он не был еще вполне
собой и ему нужно было что–то к себе добавлять, поскольку ни
отцовство, ни традиционная манера письма не заполняли целиком
его сущности.
Я предложил на выбор две имевшиеся у меня картины: «Слалом» и
«Цыганка». Дама выбрала вторую и была права. Полотно было выписано
несколько тоньше, чем другие поздние полотна отца. Я хорошо
помню его, хотя ни разу не видел с тех пор. Большой —
полтора метра в высоту и метр в ширину — холст был по желанию
отца помещен в простую грубую массивную раму, почему–то неровно
выкрашенную в голубой цвет. Истолковать этого я не мог. Фон
картины был густо–багровым с легким уходом в коричневый,
что придавало ему грубоватый оттенок. Собственно картина была
заключена еще в одну рамку, нарисованную, довольно тонко
изображавшую черные переплетенные локоны. Внутри этой, из волос
сплетенной, рамки были разбросаны золотые монеты и серьги,
тоже хорошо прорисованные. Поверх всего, по центру картины
помещался большой абрис человеческой головы, закрашенный
внутри бледно–лиловым цветом, с изящно изображенной фигуркой
танцовщицы вместо носа, еще парой золотых цехинов вместо глаз и
зеленой розой на месте рта.
Картина никогда не нравилась мне. Это была единственная из картин
отца, в которой я не ощущал двойного слоя, и мне было легче
вообразить, что его нет вовсе, чем заниматься нудными
поисками, натыкаясь то и дело на фальшивые цехины и недоумевая от
наивных арчимбольдизмов. Если бы я был искусствоведом и мне
нужно было писать исследование, я понес бы, видимо,
какую–нибудь чушь вроде того, что роза — символ нежности, умеющей себя
защитить, но зеленых роз не бывает, значит, нежность
поддельна, зато шипы не бывают поддельными никогда.
Мы с дамой быстро заключили сделку, не прибегая к помощи маклеров.
Мне не было дела до того, что на аукционе я, быть может,
выручил бы за картину больше, но для этого нужно было сдавать ее
на аукцион, то есть, как–то действовать. Лень было думать и
о том, что дама, быть может, заключила вполне выгодную для
себя сделку, продав квартиру без маклеров, формально за
небольшую сумму и, значит, заплатив минимальный налог за сделку,
к тому же, полотна отца тогда неожиданно поднялись в цене,
а недвижимость, как будто, упала. На прощание дама
полюбопытствовала, поэт я или прозаик. «Поэт,— ответил я,— пока
поэт». Дама просила, чтобы я непременно посылал ее преуспевшему
сыну свои будущие прозаические опыты.
— Из этого могут произойти деньги,— говорила она,— очень большие
деньги, а мы уж решим, что с этим делать,— и выдала какую–то
визитную карточку.
Картина отца поехала за океан ласкать взоры «всех звезд», а я стал
владельцем квартиры с окнами на парадную площадь и другими —
в богемный дворик, быть может, лучшей квартиры в городе, на
мой вкус, конечно. Ты избавился от собственности,— сказал я
себе,— и она настигла тебя опять, нужно ли спорить с
судьбой?
Я сидел на полу в помещении, которое было теперь моим, и пытался
сообразить, какая мне, в сущности, польза от этого громоздкого
имущества. Прежде всего, чтобы почувствовать, чем же я,
собственно, владею, я принялся мысленно выделять свою квартиру
из многоквартирного и многоэтажного дома. Устав распиливать в
уме каждый из кирпичей, составляющих стены, ровно пополам,
чтобы не было обидно соседям, я принялся обдумывать
велетрудный практический вопрос: устоит ли дом, если из него
каким–то волшебным образом, при котором кирпичи пилились бы пополам
вне моей бедной, засоренной рыжей пылью головы, изъять эту
квартиру. Если же я пожертвую свои половинки кирпичей
соседям, то квартира останется на месте, хотя на самом деле ее не
будет, ведь я ее мысленно изъял. Но если я решу все же
пилить, квартира останется тоже? За что же я отдал все свои
деньги и «Цыганку» впридачу? Существует ли эта квартира, или она
такая же фикция, как и все остальное? Тут я сообразил, что
кое–какие стены отделяют меня не от соседей, а от улицы, и в
доме возникнет сквозная дыра. Каковы имена тех ветров, что
засвищут в ней? Но даже тогда квартира останется, кто
запретит мне жить в дыре, если мне этого захочется? Я некстати
обзавелся недвижимостью,— таков был мой печальный вывод,— я
безнадежно туп, я не в состоянии это осмыслить. Опасаясь
касаться роковой пограничной области, я попытался отыскать
внутренние радости. Я могу теперь перестраивать все, как мне
заблагорассудится, сообразил я, и старыми детскими красками
незамедлительно размалевал одну из стен в гостиной в духе росписи
кносского дворца.
Манерные мои соседи стали тут же знакомиться со мной, пронюхав, что
я теперь владелец, а не просто жилец. Я держался слегка
заносчиво, предотвращая потенциальные вторжения в свою жизнь, у
меня теперь было на это право — между мной и миром уже
вставала моя книга.
Я писал ее залпом, истерически, не отрываясь. Я не думал о том, что
будет потом, какая судьба ждет меня и эту книгу. В какой–то
момент я понял, что работа подходит к концу, и, не без
трепета, внимательно просмотрел написанное. Стихотворения,
длинные и короткие, во всех возможных размерах или вовсе без них,
выстраивались в стройную, странно симметричную систему. Я не
замечал прежде этой упорядоченности, каждое отдельное
стихотворение существовало в моем воображении вне связи с
остальными. Теперь же любое из них представлялось необходимой
частью необходимого целого. Строгость закона, неожиданно
пробившегося сквозь легкую, эфемерную ткань поэзии, убедила меня в
моей правоте и утвердила в моем предназначении. Я не
чувствовал возможности разбить целое на какие–то случайные группки и
совать в газеты, в журналы, как делал Ганс, как делают все.
Я всегда смутно ощущал, что я не такой, как все, а теперь я
был до озноба уверен в этом. Мир уже несся вокруг меня в
заданном мною ритме, хотя и не отдавал еще себе в этом отчета.
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

