Элевсинские сатиры N° 38. Метафизика и мусор
Элевсинские сатиры N° 38
Метафизика и мусор
Жиль Делез, Критика и клиника.
Пер. с фр. О.Е. Волчек и С.Л. Фокина
Machina, Петербург, 2002, ISBN-5-901410-10-6
Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!
Ницше, Ecce Homo
В конце XX в. почтенный философ, борющийся со смертью, отвоевывающий
у нее дни и главы книги, с уважением рассуждает о молодом
скандалисте и декаденте, боровшемся в начале XX в. с жизнью –
всеми способами вгонявшем себя в могилу и, разумеется,
преуспевшем. Речь о Делезе и еще об Альфреде Жарри (1873-1907).
Патафизика, наука об исключениях Альфреда Жарри, рассматривается
Делезом как пророчество о феноменологии, а сам хулиган и
дебошир Жарри предстает как предтеча Гуссерля, не говоря уже о
Хайдеггере, с их академически поджатыми губами. Интересен не
закон, а исключение, патология, феномен – примерно так.
Изложить в двух словах, или даже на двух страницах теорию
феноменологии или хотя бы мнение на ее счет Делеза, согласиться или
отвергнуть – не выйдет. Это, пожалуй, лучшая глава книги. Ее
нужно придирчиво разбирать на страницах и страницах или
сдержанно похвалить, что я, собственно, и пытаюсь сейчас
сделать.
Если бы не обнаружилось сходство с Хайдеггером (на самом ли деле оно
есть – это уже другая тема), прекрасного философского
текста бы не получилось, а были бы обычные беспомощные
комментарии мудреца, наблюдающего из плетеного кресла за наглой
клоунадой.
Лучшая философия существует в вакууме или, во всяком случае, в
равномерном прекрасном эфире. Всякий штучный объект вызывает
замутнения, затруднения и – как бы это сказать – наивные
неловкости. Особенно, если речь невзначай заходит о языке:
метафизика растворяется в филологических дебрях, т.е. происходит
смена тональности и дисциплины. Но здесь этого почти не
происходит, хотя тема главы (и всей книги) – литература. Благодаря,
как сказано, Хайдеггеру, с его очень умеренным интересом к
филологии.
Где у Хайдеггера (осторожно) нацизм, там у Жарри – техника, в
качестве популистской, а, значит, вполне общей идеи. Ибо феномен –
товар штучный. Если глядеть на исключения в совокупности,
за каждым немедленно проступает закон, и какие же они после
этого исключения?
Что говорит на это Жарри из своей виртуальной вечности? – Ни слова,
только громко хохочет и ездит на полуигрушечном,
приличествующем его детскому росту, велосипедике вокруг
высокотехнологичного ложа смерти.
* * *
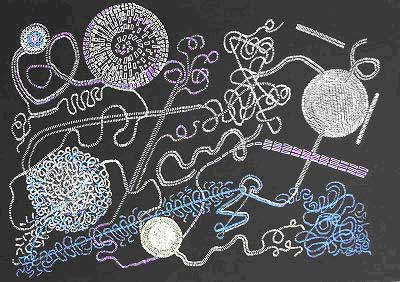 |
Боги умирают в безвестности, а если живут в забвении – так
инкогнито. Мстят тем, кто это обнаружил. Приятнее слыть живым и
могущественным, чем умершим на мрачной окраине, особенно учитывая
бесконечную череду рождений.
Tема была бы пародией на предыдущую, если бы предыдущая не была
пародией сама на себя. Почти карлик Жарри и ницшеанский
сверхчеловек, а вдобавок – ницшеанская же трактовка Ариадны и ее
любовников. А вот и родство/сходство: высший человек – это
исключение, но он хочет перекроить все человечество по
собственному образцу, ибо бесконечны его одиночество, презрение и
любовь.
«Высший человек многолик: прорицатель, два короля, человек-пиявка,
чародей, последний папа, самый безобразный человек,
добровольный нищий и тень.» (стр. 139) Отчасти понятно внезапное
красноречие Делеза: Ницше – пророк, заражающий пророчеством –
редчайший, драгоценнейший тип. Но странна редукция по русскому
типу, сводящая ницшеанство исключительно к дионисийству:
без фимиамов Дионису – никак, но был же еще и Аполлон! О нем
ни слова.
Да и Дионис нужен лишь как «преемник» Тезея на ложе Ариадны.
Ситуация, и правда, странна: Ариадну, брошенную Тезеем, с радостью
«подбирает» Дионис. То, что смертному не годно, для бога –
праздник. Тезей противопоставляется Дионису, но он не
Аполлон, и к Аполлону не имеет никакого отношения. Аполлоническое
начало отождествляет, очевидно, Ариадна. Из этого следует
странный вывод, что Аполлон обходил изысканный Крит стороной.
Но Ариадна совершила ошибку и раскаивается.
«Ариадна догадывается о причине своего разочарования: Тесей даже не
был настоящим греком; только казалось, что это грек, а на
самом деле – своего рода скороспелый немец.» (стр.141) Любой
школьник знает, что гречанкой не была, на самом деле,
Ариадна: старая и совершенная критомикенская культура оскорбилась
бы отождествлением с греческой юной нахрапистостью. Тезей же
был, скорее, славянином: «На тебе, боже, что мне негоже».
Ариадна – предательница, она сама обязана испытать предательство
Тезея. «Требовалась, чтобы Ариадна была покинута Тесеем.» (стр.
141). Но то миф, а то... «Так что же: Вагнер-Тесей,
Козима-Ариадна, Ницше-Дионис?» (стр. 137) Очень может быть. Из
этого треугольника (или из мифа), если не привлекать деталей,
запахов моря, портретов Минотавра можно сделать, пожалуй,
только такой вывод: удача – отнюдь не прерогатива богов.
* * *
И опять вниз. Ибо косноязычного сверхчеловека можно представить
только с большим трудом. Язык несовершенен. Не овладеть и этим
примитивным – не похоже на сверхчеловека.
«Можно сказать, что великий писатель – всегда как чужеземец в языке,
на котором он выражается, пусть даже это и его родной
язык.» (стр. 149) Звучит наивно. Деррида – Целан – Цветаева
формулировали поострее, рассуждая о поэтах-жидах. Но все
прочесть, вестимо, невозможно. Вспомнить все прочтенное тоже
невозможно. Тем более странны цитаты из русской литературы. Ибо
редки они, признаться, в оксидентальных текстах. Мандельштам,
Белый – выбрано безошибочно. Не без ссылок, правда, на Нива,
слависта.
Канон, базис, фундамент выбран, но эстетической свободы это не дает.
Напротив, все предсказуемо. «Великим писателям не пристало
гоняться за красным словцом, они этого никогда не делали.»
(стр. 151) А кому же пристало тогда? Косноязычие проникает в
литературу вместе с декадансом. Бартлби Мелвилла – осторожно
зафиксированное явление, последствия которого осторожно
предсказаны. И они не замедлили наступить.
Высокий штиль, мол, устарел и скучен. Косноязычие, мол, есть
пробивающаяся гениальность. Нет, увы или посчастью, но литературное
косноязычие не стихийно, а нарочито. Это игра, подделка,
стилизация. Следует различать истинное и ложное косноязычие.
Первое, в сущности, безобидно. Если апеллировать к общему названию
труда («Критика и клиника»), то следует заметить, что
истинное косноязычие есть легкое психическое расстройство. Второе
гораздо опаснее. Письменная речь – способ бороться с хаосом
подсознательного. Мысль изреченная, разумеется, есть ложь, но
это не значит, что не нужно стремиться к правде.
Тем опаснее подобная поддержка: «На своем языке всякий может
предаваться воспоминаниям, придумывать истории, высказывать мнения;
порой обретая красивый стиль, дающий ему адекватные
средства выражения и делающий из него признанного писателя. Но
когда дело за тем, чтобы подкопаться под истории, разбить мнения
и дойти до беспамятных краев, когда нужно разрушить свое
«я», недостаточно быть «большим» писателем; и средствам
выражения навсегда суждено остаться неадекватными, стиль
становится бес-стильностью, язык выпускает на свободу безвестного
чужеземца – дабы достичь пределов языка вообще и стать чем-то
отличным от писателя, завоевателем обрывочных видений,
которые пробиваются в словах поэта, красках художника, звуках
музыканта.» (стр.154)
Увы, напротив, корявость стиля есть способ оттолкнуться от границы и
не перейти ее, не подобраться к тем пределам, за которыми
нечего больше сказать. Сама философия, кстати, вполне
уязвима: формулировать приходится все-таки точно, а значит
смысловые прорехи, пустоты – как на ладони.
Сложилась парадоксальная ситуация: некосноязычные тексты остаются
уделом детективщиков, ибо интересно все-таки, кто убийца, да
технарей, поскольку человечеству нужны работающие компьютеры
и стиральные машины – по отдельности, а не их мертвые
гибриды в качестве высокохудожественных инсталляций. Упомянутые
«подчиненные» жанры пишутся без особых претензий на стиль, но
разобраться в текстах обычно можно, вопреки всем
антиталантам писателей и переводчиков. Если Джек – убийца, то рано или
поздно приходится сообщить это читателю, а если эта кнопка
включает телевизор, то уже не скажешь, что она просто для
красоты. Нарочито косноязычные же тексты пишутся так, чтобы
разобраться было невозможно. Это умело рассчитанная игра, игра
по правилам – написать так, чтобы результат выглядел
непонятным, а не неумелым. Художественное косноязычие вместо
художественной литературы.
Для пущего правдоподобия желательно выпустить немножко настоящей
крови. И русский финал уже закономерен. «Белый, Мандельштам,
Хлебников – трижды косноязычная и трижды распятая русская
троица.» (стр. 154) Русская литературная ложь – единственная,
быть может – оказалась правдой. Не фиксируясь на одиночных
Бартлби, писатели покорно перенимали говор эпохи, вместо того,
чтобы навязывать ей свой язык. Только русский декаданс
оказался настоящим: действительно, рухнуло все. Но культура не
терпит вакуума. Врывался совсем другой стиль, понастроивший на
руинах невиданное. Литинституты, например.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

