Via Fati. Часть 1. Глава 25. Не здесь и не там
Неосмотрительность — как далеко распространяются ее последствия?
Родители — насколько мы привязаны к ним? И имеет ли все хоть какое-то
значение, если они умирают? Умирают сегодня, и ты ничем не можешь
им помочь. Не можешь или не хочешь?
Роман неавтобиографичен, но, все-таки, взгляните на интервью
с автором.
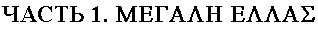 |
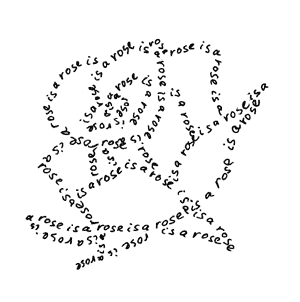 |
— Нужно быть точнее в своих просьбах,— сказала мама.
Она ни о чем не спрашивала и, казалось, не обращала внимания на
метаморфозы, происшедшие со мной: на мою худобу, на мой негритянский
загар, на пустоту, которая, как я предполагал, поселилась у меня
в глазах. Я оглядывал дом, в котором мы прожили уже много лет.
С исчезновением Публия дом стал даже не пустым, а каким-то разреженным.
Во всем пространстве дома, на тех местах, где любил сиживать Публий,
то есть, практически повсюду, как будто, образовались дыры, уничтожающие
пустоты, и я невольно пытался обходить их, выписывая по полу замысловатые
зигзаги. Что же, мне и в самом деле не нужно было уезжать? Если
бы я не собирался в дорогу, разве стал бы я вести длинные переговоры
с Корой в холле университета? Поздоровался бы, как обычно, да
и пошел себе дальше. И Публий, может быть, был бы жив. Мы не таскали
его по ветеринарам. Как знать, вдруг у него было слабое сердце,
которое не выдержало долгой разлуки со мной. Я одичал за поездку,
и что-то слегка надорвалось у меня внутри. И тут еще эти странные
мамины слова...
— Нужно быть точнее в своих просьбах,— повторила мама,— точнее
и осторожнее. Я молилась о том, чтобы к бабушке вернулись речь
и способность передвигаться, но я забыла попросить о том, чтобы
это случилось скорее, как можно скорее. Двенадцать лет... Двенадцать
лет провела она в безмолвии и без движения и, понимаешь, способность
говорить и двигаться — конечно, только остатки,— столько лет...
Способности эти к ней все же вернулись... за несколько часов до
смерти.
Я молчал, не в силах нарушить свое собственное молчание и слушал,
боясь услышать что-то ужасное, и понимая, что неотвратимо должен
услышать что-то ужасное.
— Был вторник, ты помнишь, и ты был в университете. Стоял теплый
майский вечер. Окна были открыты настежь, бабушка, мне показалось,
спала. Я услышала, как кто-то зовет меня по имени слабым хриплым
голосом и решила, что это кто-нибудь из простодушных наших соседей,
я подошла к одному окну, к другому, никого не было. Я не узнала
ее голоса, это был не ее голос, не такой, каким я его помнила.
И тут я поняла, и окаменела, это было ужасно... А она продолжала
звать, голос набирал силу, становился властным, жестким и все
более похожим на тот, прежний... Далее тянуть было невозможно,
я пошла к ней.
Она лежала на кровати, приподнявшись на локте,
и смотрела на меня ясным холодным взглядом.
— Подведи меня к окну,— попросила она.
Я исполнила ее просьбу. Ходить она, разумеется, не могла, но с
моей помощью ей удалось сделать два шага, отделявшие ее кровать
от окна, и сесть в кресло с высокой спинкой, мое кресло, в котором
я обычно сидела, когда находилась в ее комнате.
— Садись, я хочу поговорить с тобой,— произнесла она уже довольно
твердым голосом и прибавила,— с кровати я не видела, что происходит
за окном.
Я оглянулась в поисках стула, мне почему-то не хотелось садиться
на ее кровать, а в моем кресле сидела она. Наконец, я нащупала
какой-то стул и села возле нее, а она все смотрела в окно. Ты
знаешь, что видно в это окно: остатки парка и вайнмайстеровские
безобразия. Уличный фонарь освещал все это и луна, уже взошедшая
слегка ущербная луна. Я подумала, что надо бы позвонить доктору,
бабушка мгновенно поняла, отчего я заерзала на стуле.
— Нет, изволь не звать эскулапов,— сказала она,— зачем, скажи
пожалуйста, ты удрала в эту деревню?
— Мне посоветовали доктора... Покой, свежий воздух... Прежде это
не было деревней, это было уединением.
— Чушь все это,— отвечала она мне довольно злобно,— гадкая и вредная
чушь: и доктора, и покой, и свежий воздух. Если тебе вздумалось
удрать от мужа, то при чем, скажи на милость, здесь я? Зачем ты
взвалила ответственность на меня?
— Ах, нет, мама, мама,— говорила я,— если бы не твоя болезнь,
все как-нибудь шло бы дальше. Но он не написал бы картину, единственную
свою настоящую картину. Не написал бы, поскольку он привык не
слушать меня. Но ведь и я говорила не от себя, кто-то подсказывал
мне, что следует говорить, кто-то говорил моими устами, и никто
другой не говорил ему этого. Достаточно, если скажет один.
Когда он ушел, или я ушла, я уже и в самом деле запуталась, и
кто-то другой что-то сказал ему вместо меня, кто-то такой, кого
он не мог не послушать, и сказал, быть может, слишком много...
Но, различие эстетических концепций — разве это достаточная причина
для развода?
— Он, кажется, умер? — спросила она уже мягче,— до меня долетали
только отголоски ваших громов.
Я рассказала ей все, что было, все, что ты знаешь: развод, его
новая жена-вертихвостка, ах нет, нормальная баба, блондинка в
кудряшках и розовых кофтах с рюшками, как пристало нормальной
бабе, уж ее-то гардеробом он не занимался, тяжелый бесплодный
брак... Его-то, по крайней мере, никому не приходило в голову
обвинять в бесплодии. Дом-дворец на полдороги между нашим городом
и... твоим, дом, на который у него не было денег и который его
жена купила на свое имя, наделав долгов, набрав ссуд (уже на его
имя, разумеется) и продав без его ведома несколько картин, под
тем предлогом, что все делается для его блага: ему нужно «брать»
центры, ему нужна просторная стационарная мастерская, сколько
можно жить нигде? И эта картина — «У реки» — лучшее из всего,
что он написал, где она сейчас? Он ведь писал ее уже после развода,
я видела только репродукции. Ему нужно было расстаться со мной,
чтобы опять начать писать нормальные картины.
Мама приостановилась, она сама всегда поругивала меня за слово
«нормальный», риторически вопрошая «что есть норма?», но вскоре
продолжила опять:
— И потом автокатастрофа, автокатастрофа из-за сердечного приступа,
ведь его тело не пострадало, несколько синяков каких-то, сердце
остановилось раньше. Об этом писали несколько газет, другие твердили,
что вранье. А это было правдой. Конечно, она не должна была давать
ему вести машину, он давно жаловался на сердце, да все отказывался
обследоваться. И наркотики, алкоголь и наркотики, тут тоже газеты
не врали. И, конечно, окажись рядом самый обычный доктор с самыми
обычными лекарствами, он мог бы жить. Но и она свое получила:
кривая спина и ногу волочит, потому меня и пригласили тогда в
больницу — она сломала позвоночник и была без сознания. Но локончики
и розовые рюшечки — вот вечные субстанции.
Мама почувствовала, что сбивается на злорадство, и испуганно замолчала.
— Все это я рассказала бабушке,— продолжала она, переведя дыхание,—
и должна рассказать теперь тебе, ты ведь не знал, что это была
не просто автокатастрофа?
— Я видел эти газеты,— пришлось признаться мне,— нет, не дома,
в библиотеке, в подшивке,— я не находил существенной разницы между
«простой» и «непростой» автокатастрофами, поскольку я не верил,
что смерть бывает случайной и, помнится, мое библиотечное открытие
никак не подействовало на меня. Мама, напротив, всякому явлению
жизни, включая (да простится антикаламбур) смерть, приписывала
признак случайности или закономерности. Смерть в автокатастрофе
— случайная смерть, никто не застрахован от роковых случайностей.
Смерть от сердечного приступа — о, ужас! — в известном смысле
неотвратима и, значит, прошлое насыщено ошибками, неисправленными
ошибками. Я же никогда не был склонен классифицировать смерть,
поскольку такая классификация напоминала бы классификацию одной
и той же женщины в разных нарядах. Тогда, во время этого разговора,
я еще не был законченным детерминистом, хотя уверенно шел к этому.
Мама, между тем, никак не отреагировав на мое признание, продолжила
рассказ.
— Вот мне наказание,— печально-печально отвечала бабушка,— я пережила
его. Или не пережила... Но, видишь ли, если бы не было этих модно-модерновых
штучек, он не прославился бы, и ту картину, единственную настоящую,
как ты говоришь, никто бы не заметил. И картина была бы другой.
Когда творец знает, что его творение не попадет в помойку, он
творит совсем по-иному — уверенно и свободно.
— Теперь все будет по-другому,— говорила я то, что должна была
говорить,— ты поправилась. Ты окрепнешь, поправишься совсем. Все
искуплено, как будто. Если тебе не нравится здесь, мы переедем
назад в город.
— Ты не хуже меня знаешь, что этого не будет,— отвечала она,—
я уже немножко побывала «там» и мне нет пути назад, но двенадцать
лет... Зачем ты обрекла меня на эти двенадцать лет? — как она
поняла, что прошло именно двенадцать лет? — двенадцать лет чувствовать,
как по щеке ползет муха и не иметь возможности смахнуть ее! Двенадцать
лет чувствовать, как к тебе прикасаются чужие неприятные руки:
доктора, сиделки и не иметь возможности воспрепятствовать этому!
Двенадцать лет быть и здесь и не здесь, быть и не быть одновременно!
Почему ты не отпустила меня? Только теперь я смогу уйти. Двенадцать
лет размыкают цепи.
— Мама, не уходи, ты же можешь остаться, если пожелаешь,— молила
я ее,— подожди хотя бы Петера, он приедет в пятницу вечером. И
благослови его... и меня, если хочешь.
— Я не знаю, имею ли я право благословлять вас, я еще не отмолила
собственных грехов.
Наговорив кучу неприятных вещей, она, как будто, смягчилась ко
мне и гладила меня по голове и просила подставить лицо под ее
губы и не сердиться на нее. И вдруг я почувствовала, что меня
пронизывает бурное, неожиданное, трудно объяснимое счастье: у
меня есть мать, и я говорю с ней, и я могу говорить с ней еще
долго-долго и ничего не бояться, и мне нет дела до того, что будет
потом — сейчас, в эту минуту, у меня есть мать. И мы говорили
с ней еще долго, до рассвета, пока она наконец не сказала:
— Я устала, позволь мне немного вздремнуть. Нет-нет, я останусь
в кресле.
Я сидела на стуле, боясь пошевельнуться, час, другой. Она полулежала
в кресле, закрыв глаза. Первые утренние птицы распевали на все
лады, заглушая ее дыхание. Я притронулась к ее руке, рука уже
стала холодеть.
Мама умолкла и смотрела как-то в сторону. Я собрался с духом и
заговорил.
— Ведь прошел целый год, мама, больше года... Почему ты рассказываешь
мне об этом только сейчас?
— А-а-а, довольно об этом.
— Что еще? Что она сказала тебе еще? Вы ведь проговорили всю ночь,—
настаивал я.
— Наверное, она невольно сказала мне что-то лишнее, и теперь и
я должна уйти вслед за ней,— мама поставила точку в конце рассказа,
и я знал, что никакие силы не заставят ее заговорить опять.
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 24. Начало определяет конец?
- Via Fati. Часть 1. Глава 23. Перо ангела
- Via Fati. Часть 1. Глава 22. Двойник
- Via Fati. Часть 1. Глава 21. Вечные штудии
- Via Fati. Часть 1. Глава 20. Что за книга?
- Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

