Via Fati. Часть 1. Глава 26. Молодой гений
Ты долго учился и страдал. Он хамоват и неотесан, и вот, лавры летят к его немытым ступням, минуя твой чистый и умный лоб, и даже возлюбленная, недоступная, бессмысленно долго глядит в его сторону.
О просвещенной и не очень поэзии читайте в
интервью с автором.
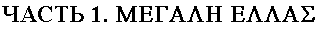 |
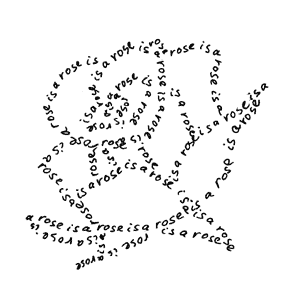 |
Я перестал искать новых знакомств. Многие теперь искали знакомства
со мной. Я редко отказывал в аудиенциях, интервью и публичных
выступлениях, если меня о них просили, поскольку такой
отказ представлялся мне непорядочным. Раз ты решился разомкнуть
покровы молчания, в которые любой из смертных облачен от
рождения, то теперь, когда тебя услышали и просят: «Скажи,
скажи еще»,— ты уже не вправе молчать.
Между тем, я не стал модным писателем, я стал уважаемым. Я
оказывался в чрезвычайно трудном положении, когда меня просили
объяснить что-то в моих стихах. Если бы я был моложе и этаким
порхающим поэтом-эльфом, я имел бы полное право отвечать, что
стихи необъяснимы, более того, часто — бессмысленны, что это
роса, выпадающая после перепадов душевных температур. Но я
был серьезным писателем и начинал объяснять, предупреждая,
впрочем, что излишнее копание в стихе сродни брутальному
исследованию редкого цветка: наблюдай его в разных ракурсах, но не
вздумай разрывать на части, пытаясь сообразить, почему этот
лепесток соединен именно с тем, с которым он соединен, а не
с каким-нибудь другим, или даже просто грубо раздвигать
лепестки, рассчитывая усмотреть в глубине чашечки плодотворящий
пестик. Уйдет и совершенство формы, и благоухание, и жизнь.
Это случилось лет пять или шесть тому назад. Я уже с год ничего не
писал и публиковал залежалый вздор. И опять я казался себе
ничтожеством, которому нужно запретить даже прикасаться к
чистой бумаге. Я сразу припомнил выражения недоброжелательных
критиков, обвинявших меня... В чем меня только ни обвиняли!
Между тем, я не мог вообразить себе критика или
литературоведа, страдающего от сомнений в целесообразности и даже
совершеннейшей необходимости его деятельности. И опять я подумывал о
Замковой горе, не о небоскребе же, в самом деле, было
подумывать... Впрочем, тогда Замковая гора не была больше столь
необходима мне в таких, прошу прощения за неловкий черный
юмор, приземленных целях. Я завел кое-какие знакомства и без
особенных затруднений мог достать и револьвер, и хороший яд.
Но что-то останавливало меня перед тем, чтобы обзавестись
oружием и ядом. Я знал, что наступит день, и я не устою перед
соблазном.
На душе было скверно, однако тогда я уже понимал, что это не
навсегда, такие состояния неизбежны, но не вечны. И именно тогда я
окончательно понял, что становлюсь мэтром. Кора позвонила
мне и спросила, не помню ли я, как мы обсуждали с ней
положение вещей в поэтическом инкубаторе. Мы действительно обсуждали
это и пришли к печальному выводу, что ничего существенного
там не наблюдается, впрочем, может, и не должно пока
наблюдаться, я и сам еще довольно молод, к тому же, наступает,
кажется, время зрелых литераторов. Цивилизация дряхлеет,
как-никак. «И теперь,— говорила Кора,— появился будто бы молодой
поэт, к которому стоит присмотреться повнимательнее. У него,
кстати, трудности с публикацией.» «Тащи,— пришлось предложить
мне,— я превосходная наседка».
Они вошли. Я наткнулся на взгляд молодого гения, дающий мне понять,
что он кое о чем догадывается, и мне тоже следует кое о чем
догадаться. Я не придумал ничего лучшего, как сделать вид,
что я не заметил его грубых, хотя и безмолвных намеков. Его
звали Дитером. Он был неопрятен, некрасив лицом, плохо
сложен. У него дурно пахло изо рта и была скверная дикция. Он был
совершенно необразован и нес ахинею назидательным тоном. И
слушать его, и смотреть на него было неприятно. Я бросал на
Кору многозначительные взгляды. «Ты в своем уме?» — значили
они, но Кора не обращала на меня внимания. Но будь молодой
человек опрятным и воспитанным, было бы, вероятно, еще хуже...
— Что вы пишете? — спросил я все же.
— Я пишу то, что мне хочется писать,— не задумываясь, парировал собеседник.
— Что вы уже написали? — поправился я.
— Большую поэму и много стихов.
— Как называется поэма?
— «Дорога Судьбы».
— Вы были там?
— Зачем?
Мне надоела перебранка и я попросил его прочесть три стихотворения,
которые он сам считает лучшими. Он съел полкило сыра бри,
разочарованно плюнул рокфором, выпил два стакана вина и
принялся что-то бубнить заунывно. Опусы его мне совсем не
нравились и, не зная, чем заняться, я принялся сосредоточенно
разглядывать рисунок кориного шейного платка и то ожерелье,
которое выглядывало из-под платка, когда Кора поворачивала голову,
и софистически размышлять, что же такое истинное изящество.
В некоторые, пусть редкие, моменты, я не мог не отрицать кориных
шейных платков и ожерелий — деталей совершенно лишних, с точки
зрения самодостаточности и завершенности их обладательницы.
Платок был бело-синий с нарисованными золотыми шнурками, что
вызывалось потребностью гармонировать с темно-синим
костюмом и двумя рядами псевдо-золотых пуговиц, красующихся на нем;
ожерелье — жемчужным, с золотой — непонарошку, надеюсь,—
застежкой. Любая приказчица из дорогой лавки считает своим
долгом перед покупающим человечеством обрядиться в этакий
костюмчик и повязаться этаким платочком, пусть не шелковым, а из
какой-нибудь дряни, да и ожерелье будет нелишним, хотя бы и
из поддельных жемчужин, но уж зато выдающейся величины.
Я допускал, что мой спорадический костюмный нигилизм — род условного
рефлекса, выработанного мамиными воззрениями на предмет
нарядов. Мама отрицала, к примеру, дамские шляпки, хотя бы те
принадлежали королеве. Поскольку, во-первых, шляпка — вещь
ненужная и лишняя в интерьерах и в пасмурную погоду, и,
во-вторых, если шляпку нахлобучила жена мясника, то королеве, быть
может, стоит воздержаться от этого аксессуара и
показываться простоволосой, раз короны не в фаворе.
Если дама вовсе не носит шейного платка, это может быть признаком
благородной простоты, но если платок имеется, и он однотонный,
то это уже не простота, а претензия на простоту. Ах, все
безнадежно и с этим. Стараясь не глядеть в сторону гостя, я
припоминал теорию костюма, которую мы шутя обсуждали как-то с
этой самой Корой, профессиональным экспертом по костюмам,
притащившей сейчас ко мне далекого от любых теорий молодого
олуха. Патрицианское платье всегда было абсолютизацией
плебейского,— открыли мы тогда. Стиль есть изящество плюс
осмысленность,— вывели мы попутно формулку,— его диктует эпоха, а не
благородство происхождения или отточенность манер. И
аристократы — рабы эпохи в большей степени, чем их слуги. Теорию
можно развивать. Мы вынуждены жить среди вещей, сделанных
обычными ремесленниками, поскольку сами не хотим ничего делать
руками и даже эскизы вещей, которые хотелось бы иметь,
набрасывать нам лень. Мне стало грустно. Мой гость представился
мне тоже одной из тех неизбежно необходимых вещей, среди
которых приходится жить, поскольку лучших в магазине не нашлось.
Так окольными путями я и пришел к разгадке. Кора затем его и
притащила, что в его поколении все явственнее намечается
поэтическая лакуна. Я допускал, что он действительно лучше
всех своих сверстников. Кроме того, в нем есть напор, который
можно было бы принять за вдохновение, будь он чуть отесаннее,
и он не пробует писать — он уже пишет. Он не перестанет
писать, если только кто-нибудь из тонких знатоков изящной
словесности не отправит его сгоряча к праотцам и не сядет в
пожизненную за умышленное убийство. Я был не в силах слушать
дальше и попросил его оставить свои опусы, чтобы я мог их
спокойно просмотреть в одиночестве.
— Я еще не зарегистрировал авторское право,— нахально заявил он.
— Как вам будет угодно,— ответил я,— пойдемте, я провожу вас до двери.
Он нехотя встал и направился к выходу, оставив все же замусоленные
свои писания. Вслед за ним поднялась и Кора. «Зачем?» —
захотелось мне крикнуть с интонациями ее протеже, но я смолчал.
Они ушли, оставив меня наедине с неряшливой рукописью, которая не
обещала быть чутким собеседником, вести счет моим бедам. Я
успел исписаться, а он энергичен и пробьется рано или поздно,
пробьется и подомнет меня под себя. Но какова Кора? Не
противно же, право, королеве развлекаться с придворным шутом,
отмыть которого она не потрудилась. Что же, музы лишены
обоняния? Кто бы мог подумать, что она так неразборчива, и что она
все еще в состоянии причинить мне боль. Ей тридцать лет. У
нее были десятки, может быть, сотни любовников, с двумя из
которых я даже, кажется, знаком. Почему же так болит сердце, о
боги?
Я все еще совсем не знаю ни Кору, ни общество, в котором она
вращается, и в которое она никогда меня не вводила, зная прекрасно
все мое окружение, включая журнальных редакторов,
издательских корректоров и соседа напротив, с которым я частенько
переругиваюсь. Та изысканная решительность, с которой она
неизменно пресекает обсуждение сколь-нибудь серьезных тем,
искушает заподозрить в ней скудость ума. С кем же она обсуждает
«истинные» темы? С другими знакомыми? — Уступаю право более
просвещенным. С родителями? — Кто они, в конце концов? С
духовником? — Нужен ли ей посредник, или она умеет беседовать
непосредственно... с Ними? Если ей вздумалось объявить молодого
гения гением, то в этой сентенции было не меньше истины, чем
в той, которая касалась моей собственной гениальности. Моя
же собственная гениальность казалась мне безусловной по
меньшей мере в течение двух часов, набираемых вечерами по
одной-двум пьяным восторженным минутам.
Неужели Стефан, грубоватый Стефан почувствовал Кору лучше, чем я?
Когда я провожал его в Америку, меня занесло отчего-то в
ненужно-материальные сферы, цель ли его путешествия так на меня
повлияла, или я неумело пытался его успокоить и примирить с
неудачей.
— Странноватую жизнь ведет наша общая знакомая. Какие-то нелепые
работы... Она могла бы заработать огромные деньги на своем
образовании и интеллекте, не говоря уже о внешности, жить во
дворце,— говорил я ему.
— Она делает абсолютно правильно, ведя себя подобным образом,—
холодно отвечал внешне смирившийся Стефан,— не делает ничего. Ну
чему может научить мир хорошенькая дамочка? И переменить она
ничего не может. Мир не стал бы лучше, если бы ее лицо
красовалось на обложках иллюстрированных журналов. Мир не
перевернули и более серьезные события. Помнишь «Свадьбу в Кане»
Герарда Давида? Мессия и его мать сидят за общим столом, от их
голов исходит сияние, но никто не замечает этого, все
смотрят в другую сторону, и они сами сидят не в центре, а где-то
сбоку. В центре — жених и невеста, кто угодно может быть
женихом или невестой. Я становлюсь фаталистом, все происходит
так, как должно происходить, и обложки журналов лоснятся
правильными, случайными физиономиями. Кроме того, дворец хорош
тогда только, когда выходить из него нужно по собственному
желанию, а не на работу. Тот, чья физиономия распластывается
по обложкам, живет не только в своих дворцах, но и на всех
этих обложках. Ты уже давно снялся на обложку и вернулся к
себе во дворец, но вдруг тебя прохватывает жестокая печеночная
колика от того, что кто-то наступил кованым каблуком на твое
изображение, упавшее в лужу. А если дворец непереносим для
тебя больше? Легче не иметь дворца вовсе, чем начать
избавляться от него. Любой дворец находится в каком-то одном, пусть
хорошем месте, а если хочется быть одновременно повсюду?
Знаешь какой самый трагичный в мире символ? — заброшенный
дворец... Она умнее всех нас вместе взятых.
— Как же ты решился тогда?
— Мне показалось, что мы с ней немного похожи — мне тоже не нужен
дворец, разница лишь в том, что она могла бы иметь дворец,
если бы хотела, а я нет. Те, кто мог бы иметь дворец,
составляют замкнутую касту и никогда не станут близко сходиться с
чужими.
Я плохо помню, где и с кем я провел остаток дня. В квартире
попахивало молодым гением, поэтому, кажется, я отправился куда-то
предаваться вакхическим возлияниям в обществе каких-то юных
гетер и мучился весь последующий день головной болью. Как
восхитительное бредовое видение, вновь предстала передо мной
Кора, и тело ее впервые показалось мне нечистым. Я чуть не
выгнал ее, так она была хороша. Она же принялась — зачем это ей?
— объясняться, клянясь, что провела ночь в одиночестве,
распростившись со своим юным гением у моего подъезда, а
вернуться спустя некоторое время ей не удалось, поскольку меня уже
не было дома.
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 25. Не здесь и не там
- Via Fati. Часть 1. Глава 24. Начало определяет конец?
- Via Fati. Часть 1. Глава 23. Перо ангела
- Via Fati. Часть 1. Глава 22. Двойник
- Via Fati. Часть 1. Глава 21. Вечные штудии
- Via Fati. Часть 1. Глава 20. Что за книга?
- Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

