За Границей №16. Ален Бадью. Окончание
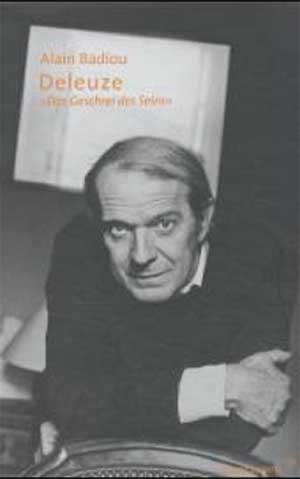
МК: Знакомы ли Вам произведения русских философов?
АБ: Я мало знаком с русской философией, как, впрочем, и большинство западных людей. И мне стыдно за этот пробел, за это незнание. Потому что не знать чего либо – это всегда плохо. Однако я читал кое-какие произведения Мамардашвили: в частности, его анализ философии Декарта. Впрочем, он ведь вроде бы не совсем русский, а грузин… Но, пожалуй, я знаю русскую философию исключительно сквозь призму политической русской мысли. Могу сказать, что я очень много читал Ленина.
МК: Ну, а то, что Ленин в 1922 году посадил на пароход и выпроводил из страны практически всех ведущих русских философов, можно назвать актом «очищения»?
АБ: Честно говоря, я не сторонник подобного рода мер. Однако, здесь есть интересный момент. Примерно об этом я как раз и пишу в своей книге «Век», когда затрагиваю тему радикализма: философы мешают нам, поэтому мы отправим их в Европу и таким образом произведем своеобразное очищение культуры от инородных элементов. Такого рода акция позволяет избежать опыта борьбы противоречий, поскольку эти противоречия просто устраняют, вместо того, чтобы опытным путем выяснять, кто же прав. Вот так, пожалуй, в Советском Союзе главным образом и поступали всегда: вместо того, чтобы посмотреть, как развиваются противоречия, понять, чему нас учит эта борьба, вникнуть, правы другие или же ошибаются – их просто устраняли. Так что эта мысль, претендовавшая на диалектичность, на самом деле, была совсем не диалектической, а догматической. Поскольку диалектика предполагает наблюдение за развитием вещей в их противоречии, но вовсе не в устранение этих противоречий. А целью советских властей было не просто устранение противоречий, но даже устранений самой возможности этих противоречий. Такой путь мне представляется заведомо тупиковым. И дело даже не в том, что это плохо или же безнравственно – куда важнее, что подобных целей просто невозможно добиться… И мне кажется, что тут присутствует еще одно обстоятельство, которое фатальным образом довлело надо всей судьбой Советского Союза – я имею в виду гражданскую войну. Так как это был совершенно ужасный период, когда не только те, кто стоял у власти, но даже и простые люди обрели привычку решать любые проблемы насильственными методами. Почитайте литературу того времени, загляните в исторические книги, и у вас не останется ни малейшего сомнения в том, что именно тогда в России практически все стали стремиться к устранению своих противников, прибегая к насилию в самых крайних его формах: тогда ведь запросто можно было убить не согласного с тобой человека или же отправить его надолго в тюрьму. Причем к таким мерам прибегали не только большевики, но и многие другие. Мне кажется, что гражданская война была еще и страшной катастрофой человеческой личности, то есть она повлекла за собой не только катастрофические материальные разрушения, голод, гибель огромного числа людей, но и ужасные духовные последствия. И я считаю, что именно этот субъективный фактор гражданской войны, а точнее, обретение людьми привычки решать все проблемы путем насилия и убийства, и сделал возможным последующее появление такого исторического персонажа, как Сталин.
МК: Этот год во Франции, да и во всем мире, проходит под знаком столетнего юбилея со дня рождения Жана-Поля Сартра. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом мыслителе, который в шестидесятые годы тоже причислял себя к ультра-левым и маоистам. Мне кажется, в названии вашей книги «Бытие и событие» присутствует скрытая полемика с названием книги Сартра «Бытие и ничто»: у Сартра акцент сделан на одиночестве человека, а у вас – на его социальности...
АБ: Вы знаете, в молодости Сартр мне был очень близок, к тому же я был с ним лично знаком. И его творчество сыграло в моей жизни огромную роль. Главное, что я у него почерпнул – это то, что человек сам отвечает за свою судьбу, примерно так... И еще радикальную идею свободы: то, что свобода – это всегда творчество, изобретение, разрыв, а не спокойная жизнь в строго очерченных рамках социума. У Сартра концепция свободы одновременно пессимистическая и героическая. Свобода – это что-то вроде создания себя самого самим же собой. Эта идея по сути немного идеалистическая, но она помогла мне понять, что смысл жизни заключается в созидании и стремлении к чему-то новому. Именно исходя из этого, позднее я и разработал собственную философию, которая уже не имела ничего общего с Сартром, одиночеством человека, тоской и, если так можно выразиться, прочими разновидностями «черного романтизма». Ибо меня больше интересовала великая идея коллективного творчества и равенства, в которой, на мой взгляд, и заключается подлинная свобода. Но, думаю, я остался верен духу бунтарства, которым была проникнута вся философия Сартра. Сартр ведь стал великой фигурой во французской философии прежде всего потому, что всегда был бунтарем, революционером и никогда не выступал в защиту существующего порядка вещей, никогда не был функционером этого порядка. Все это сформировало мою молодость. И мне кажется, всегда нужно оставаться верным идеалам своей молодости. Так что я по-прежнему храню верность Сартру, хотя в философском плане, как вы верно заметили, довольно далеко от него отошел.
МК: Как вы относитесь к тому, что на недавнем референдуме по поводу европейской конституции 65% французов проголосовали против ее принятия? При этом, насколько я знаю, во Франции против этой конституции выступили как левые, так и крайне правые политические силы…
АБ: Лично я вообще не ходил голосовать, потому что у меня не было аргументов голосовать «за», но также и не было серьезных аргументов сказать «нет». Но я думаю, что единая Европа имела бы для меня хоть какой-то смысл только в том случае, если бы у нее было достаточно силы и возможностей противостоять Соединенным Штатам. Если же она неспособна остановить США, неспособна что-либо им противопоставить, какие-то серьезные контр-аргументы, то она навсегда так и останется обычным капиталистическим пространством. Возможно, в нем кто-то и чувствует себя в относительной безопасности, но для меня это не так уж много значит. Мой главный вопрос к этой Конституции – политическое направление, которое она задает. У меня такое впечатление, что в ней вообще никак не обозначены какие-нибудь внятные политические ориентиры. По сути, она представляет собой попытку некого компромисса между совершенно разными людьми. Ведь политика англичан, французов и немцев точно так же, как испанцев и итальянцев, сегодня ничего общего между собой не имеет. Так что для меня эта Конституция является как бы фотографией всех этих противоречий: никакой ясной политической линии в ней не прослеживается, а только, разве что, экономическая. Вот экономически там все продумано – тут никаких сомнений нет. А о политических ориентирах там практически ничего не говорится. Поэтому я бы не сказал, что считаю эту Конституцию очень удачной – скорее, наоборот. Я во многом согласен с аргументами ее противников, в том числе и придерживающихся левых взглядов. И в частности, по поводу того, что эта Конституция по сути консервативна, потому что ее целью является сохранение Франции в том виде, в каком она существует сейчас. То есть создателям Конституции хотелось бы сохранить Францию 50-х годов, которой, на самом деле, уже давно нет. В общем я считаю, что эта Конституция является достаточно амбициозной и броской по форме, но чрезвычайно слабой по содержанию. Поэтому тот факт, что эту Конституцию не приняли, я сейчас оцениваю, скорее, положительно…
МК: А вас не смущает, что между философией и политикой в наши дни установилась несколько односторонняя связь: философов политика продолжает волновать и интересовать, а вот политиков философия – вряд ли? Неслучайно ведь некогда Сталин и Мао называли себя «марксистами», а сегодня уже философы – как, например, вы или тот же Сартр – называют себя «маоистами»…
АБ: Должен сказать, что лично я всегда придерживался точки зрения, что между философами и политиками существует огромная разница. Это далеко не одно и то же. У нас совершенно разные цели. Не стоит забывать, что необходимость проводить глубокий и тонкий анализ можно найти еще у Платона и Аристотеля. И понятно, что Аристотель, который был учителем Александра – это совсем не Александр. Точно так же, как Сартр или я – это не Мао или Ленин. И это вполне нормально. Политики просто вынуждены многое упрощать. Во-первых, потому что они не могут обращаться исключительно к избранным, к тем, у кого высокий уровень образования и культуры, а вынуждены апеллировать к большинству, дабы привлекать на свою сторону как можно большее количество людей. Хотя Платону бы, возможно, такая идея и пришлась по душе – делать политику исключительно для философов... А во-вторых, политики, вынуждены принимать решения практически в любых обстоятельствах. И эти обстоятельства порой бывают таковы, что принять какое-либо решение вообще не представляется возможным, но, тем не менее, это все-таки нужно сделать. Политикам нужно разрубать узлы и для этого тоже приходится многое упрощать. Поэтому политика, даже самая либеральная и демократическая, всегда гораздо проще, чем философия. Вот и получается, что, если философов нельзя использовать для подобного упрощения, то зачем они тогда вообще нужны. Однако без сложностей в этом мире очень скоро стало бы нечего упрощать… Ну а что касается меня, то я пишу довольно сложные вещи, хотя умею их и упрощать. Например, моя книга «Век» – одна из самых простых, которые вообще себе только можно представить.
Но эту проблему, вероятно, можно сформулировать и несколько иначе. А может ли вообще существовать какая-нибудь мощная и глубокая философия во времена, когда политика является такой неясной и неопределенной, как сегодня? Можно сказать, что философия Ригеля сопровождала Французскую революцию, что великая философия Маркса сопровождала практически все революции 20 века, что даже Сартра невозможно себе представить без коммунизма – против этого трудно что-либо возразить. Так что многие великие философские системы были связаны с существованием, если не великой, то, по крайней мере, амбициозной политики. А в наши дни, когда политика стала такой неясной и расплывчатой, и философия переживает глубокий кризис.
МК: Ну а чем философы отличаются от антифилософов, которым посвящен ваш семинар в Международном философском колледже?
АБ: «Антифилософами» я называю мыслителей, которые в своем творчестве больше опираются не на рациональную аргументацию, а на свой личный опыт, то есть тех, кто отвергает безличную систематическую философию во имя существования живого конкретного человек и стремится сделать собственную жизнь частью своей философии. Эти мыслители обычно крайне негативно оценивают таких философов, как Гегель, Платон и им подобных, противопоставляют себя им. Мне кажется, что такого рода философия русским должна быть очень близка и понятна, поскольку многие русские, как мне кажется, испытывают сильное тяготение ко всему безмерному, иррациональному жизненному опыту, поискам души… Однако это характерно не только для русских. Возьмите, к примеру, Паскаля, Руссо или же Киркегора – эти люди тоже мыслят подобным образом. Они все исходят из того, что существует нечто такое, что человек может познать только из собственного жизненного опыта, а не через наставления учителя. Большинство философов считают иначе, а именно, что жизнь и окружающий мир можно познать исключительно через учения других философов. Вот это и есть философия в традиционном смысле этого слова. К антифилософами же я причисляю тех, кого, вероятно, можно было бы назвать «экзистенциалистами», но в более глобальном смысле – тех, кто ищет истину главным образом в собственной жизни.
МК: Насколько я знаю, занятие философией вы достаточно успешно совмещаете с художественным творчеством. Для французского мыслителя это не такая уж и редкость, однако существует мнение, что между литературой и философией все-таки пролегает некая непреодолимая пропасть. Можно вспомнить, например, известное высказывание Гельдерлина о том, что «философия – это госпиталь для неудавшихся поэтов»…
АБ: Да, действительно, я написал три романа и несколько театральных пьес, который ставились в театре. Все мои театральные пьесы посвящены народной жизни. Действие обычно происходит в каком-нибудь бедном пригороде, а персонажи – либо вышедшие из народа политики, либо простые люди. Через эти образы я пытаюсь передать мысли и настроения, которые свойственны в данный момент представителям народа. В этих пьесах встречаются и философские рассуждения, но тоже вложенные в уста простых людей.
А в своей прозе я делаю упор на несколько другие вещи. Мой первый роман, например, был написан под сильным влиянием Джойса и представлял из себя своеобразный формалистический эксперимент. А мой последний роман уже совершенно другого рода: это чистый вымысел, хотя в нем я тоже пытаюсь дать наиболее полную картину современного мира. Философия вообще чрезвычайно заразная вещь…
Что касается Гельдерлина, то, пожалуй, он чересчур строг. Впрочем это противопоставление поэзии и философии имеет достаточно долгую историю: можно вспомнить того же Платона… Однако я полагаю, что у философии и поэзии совсем не обязательно отношения должны складываться столь драматично. Думаю, что у Гельдерлина присутствует очень сильное желание противопоставить себя Гегелю – вы ведь знаете, что они вместе учились. Вот и получилось, что один из них выбрал великую поэзию, а другой – исключительно концептуальное мышление. Однако, я думаю, можно работать и над примирением этих двух видов деятельности: философии и поэзии. Во всяком случае, надо к этому стремиться…
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

