Анна Каренина. Не божья тварь. Выпуск 2
роман о романе
сценарий-эссе
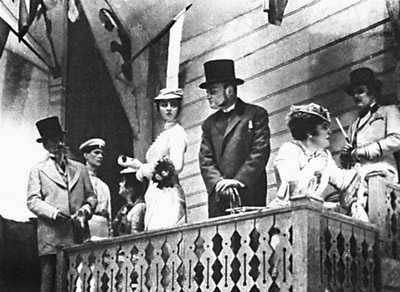 |
1. Первая встреча с Вронским. Дурное предзнаменование
«Встретив Вронского по дороге в Москву, она страстно влюбляется.
Эта любовь переворачивает ее жизнь – теперь все, на что она смотрит,
видится ей в другом свете».
Ложь Набокова
Дислокация такова. Степан Аркадьич Облонский – Стива, родной брат
Анны – попался на любовной записке к гувернантке. В результате
в доме скандал, его жена Долли (Дарья Александровна Щербацкая)
в шоке. Примирение возможно – при вмешательстве доверенного лица.
Этим лицом избирается Анна.
Анна живет в Петербурге, она гранд-дама, замужем за высоким чиновником
Алексеем Александровичем Карениным, занимавшим «одно из важнейших
мест в министерстве». Муж старше ее на 20 лет. Если предположить,
что Анна вышла замуж будучи 18-20 лет и что она в браке вот уже
9 лет, то на момент развития сюжета ей исполнилось 26-28 лет,
а ее мужу соответственно 46-48.
Нельзя сказать, что для Анны этот брак явился неравным: разница
в возрасте существенна, однако не настолько, чтобы быть несчастной,
а то и, не дай бог, сексуально неудовлетворенной женщиной. Кстати,
об этом в романе нет ни слова, даже наоборот – весь уклад ее жизни
с мужем говорит об обоюдном покое и полном удовлетворении друг
другом на протяжении многих лет.
Алексей Александрович как-то не особенно собирался на ней жениться
– красота, изящество и очарование Анны не воздействовали на него.
Почему? Потому что Каренин всегда был: 1) глубокой натурой, интуитивно
стремящейся к духовности, 2) недюжинного ума человеком, 3) на
тот момент – при условии двух предыдущих пунктов – он уже был
далеко не мальчик, которого женщина могла взять вот так с кондачка.
Однако он все-таки женился – и сам не понял, как это произошло.
А просто брак с таким человеком был выгоден, и Облонские, используя,
мягко говоря, нечистоплотные методы, сделали все для того, чтобы
заставить его жениться. Думается, не без согласия Анны, а то и
с прямым ее участием в этой интриге – понимала же она, что не
произвела на Алексея Александровича нужного впечатления, раз уж
он не предлагает ей этого сам; и понимала же она, что почему-то
он все-таки женился на ней.
В браке у Карениных родился сын Сережа. Жизнь главы семейства
протекала в трудах на благо России, а жизнь Анны – в светском
блеске. У Анны великолепный вкус ко всему, что может ее украсить
– к нарядам, драгоценностям, разговорам, манерам. Это даже не
просто великолепный вкус, а целое профессионально разработанное
и отлично налаженное производство по изготовлению и поддержке
имиджа. Анна блистает в свете, она светская львица – она словно
постоянно участвует в конкурсах красоты, неизменно побеждая соперниц.
Демонстрировать себя, вызывать зависть и восхищение собой – ее
единственное занятие, которому она и предается без устали. Я не
осуждаю. Я только подчеркиваю, что это ее единственное занятие.
Так они живут девять лет. Все это время в Анне медленно копится
разрушительная сила, обусловленная ее комплексом превосходства,
или гордыней. И однажды Анне становится скучно. Все рекорды побиты.
Все соперницы низвергнуты. Все виды дозволенного кокетства тысячу
раз перепробованы. Все мужчины давно упали к ее ногам. Всё скучно
и хочется большего. Что же дальше? В ней начинает потихоньку зреть
мысль о любовнике. Но не просто о любовнике – не о простом любовнике,
каких тьма и каких имеют многие и многие женщины ее круга. Развлечься
посредством любовной интрижки, как это делали замужние светские
дамы, это пошло, это не для нее, это для тех, кто попроще. Тоска
по большой любви ее тоже не беспокоит. Физиологическая жажда сексуального
удовлетворения также совершенно не мучает ее. Сексуальную удовлетворенность
она получает и с мужем – о полном сексуальном комфорте с мужем
в романе не говорится прямо, но все упоминания об их совместной
жизни ничем не наводят на мысль о каких бы то ни было сексуальных
тяготах Анны. Так что версия сексуального голодания также отпадает.
Короче, Анне нужна чужая страсть. Но не только. Любовник-раб,
тряпка в ее руках, и чтобы все видели ее могущество – вот ее заветная
мечта. И мысли об этом однажды начинают смутно в ней бродить.
Тайная мысль, опасный секрет придает новизну ее жизни, вносит
элемент азарта. С этим внутренним настроением она и едет в Москву.
А в это время в Москве некий офицер, богатый и блестящий молодой
человек, Алексей Кириллович Вронский, ухаживает за Кити – Катериной
Александровной Щербацкой, сестрой Долли. И все уверены, что Вронский
вот-вот сделает ей предложение. Все, кроме самого Вронского. Ему
просто нравится ухаживать за девушкой, и он уверен, что ничего
дурного в этом нет. Дело в том, что Вронский с детских лет был
практически брошен матерью ради ее многочисленных любовников (как
потом Каренина бросила сына ради него самого! неслучайный штрих),
а потому не получил должных навыков в этом щекотливом вопросе.
Поэтому, не собираясь жениться на Кити, он и понятия не имел,
что своими невинными, как ему казалось, ухаживаниями он дискредитирует
девушку. Кити же и ее родителям и в голову не приходит, что о
подобных вещах можно не знать. К тому же из Петербурга в Москву
(в одном купе с Карениной) едет его мать – а для чего же она и
едет, думают Кити и ее родные, как не благословить сына на женитьбу?!
Вообще-то Кити больше нравится Константин Левин, но Вронский ярче.
В то же время Кити и сама чувствует фальшь в своем отношении к
Вронскому – она дает себе отчет, что в этом больше восторга от
блестящих перспектив, нежели настоящего чувства.
*
Первая встреча Вронского и Анны происходит на вокзале: она выходит
из вагона, а он входит в вагон (курсив и подчеркивание мои):
«Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся
темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно
остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас
же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом
коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность,
которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и
чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток
чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался
то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет
в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке».
А теперь представьте себе: Анна только что проделала долгую, довольно
тягостную дорогу, наверняка устала, утомилась, как всякий живой
человек, и вдруг – столько эмоций! Сначала – дружелюбие и внимательность.
А потом и еще целый каскад – оживленность, улыбка, блеск во взгляде
и даже свет в глазах – правда, все это приглушенное, сдержанное,
но тем не менее сколько всего при короткой случайной встрече с
незнакомым мужчиной!
Казалось бы, все объясняется просто – она всю дорогу проговорила
о нем с матерью Вронского, чем, безусловно, вроде бы полностью
объясняется эта внимательность – «как будто она признавала его»,
как будто она уже знала его.
И все-таки эмоций для такого пустяка слишком много. Лично у меня
сложилось такое впечатление, что Каренина знает о Вронском что-то
такое, чего он и сам о себе еще не знает. Что она уже знает о
нем то, чего еще и нет вовсе, но что может случиться – если она
того пожелает. И что свое желание в отношении Вронского уже взращено
и сформировано в ней – задолго до самого Вронского, на месте которого,
кстати, мог быть и кто-нибудь другой, потому что Вронский для
нее лишь подходящий объект, соответствующий ее тайным желаниям,
в существовании которых она вполне дает себе внутренний отчет.
Вот чем объясняется эта внимательность. И для того, чтобы ее план
свершился (если, подчеркиваю, она того пожелает), ею немедленно
задействован целый каскад технических средств, которые призваны
не просто внушить Вронскому восхищение ее красотой, но заранее
насадить его на крючок.
Тут на вокзале происходит несчастье – поездом задавило сторожа.
А теперь снова внимательно читаем роман:
«Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидал,
что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.
– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько
сот сажен.
– Дурное предзнаменование, – сказала она.
– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. – Ты приехала, это
главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.
– А ты давно знаешь Вронского? – спросила она.
– Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.
– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе,
– прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически
отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих
делах. Я получила твое письмо и вот приехала.
– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич».
Какой коротенький диалог! А между тем он содержит в себе сразу
три важнейших события.
Первое. «Дурное предзнаменование». Важный вопрос, до которого
так и не додумался ни один восторженный критик: почему эта мысль
пришла в голову только ей? Почему все остальные восприняли это
как несчастье – как чужое несчастье, которое не имеет к их жизни
никакого отношения, и только одна Анна воспринимает это как предзнаменование?
При этом как дурное предзнаменование? Такое ощущение, что она
заранее (подсознательно) готова к чему-то подобному – и давно
знает к чему, а также чем это может для нее закончится. Такое
ощущение, что она этого ждет, и более того – хочет. И это неудивительно.
Любовь к разрушению включает в себя и любовь к саморазрушению,
страстную любовь – не к смерти, а к процессу собственной гибели.
Второе. Буквально следом после откровенно дежурного утешения Стивы
– которое уж никак не могло утешить того, кто увидел в этом действительно
то самое дурное предзнаменование, которое так любят наши незатейливые
критики и литературоведы, – в общем, сразу же после этого Анна
моментально переключается на Вронского, спрашивает про Вронского,
интересуется Вронским – как будто напрочь забыв про дурное предзнаменование,
от одной только мысли о котором только что – минуту назад! – у
нее дрожали губы, и она с трудом удерживала слезы. А ведь это
замечание о дурном предзнаменовании напрямую связано с Вронским,
вернее с нехорошим, некрасивым планом Анны насчет него – с планом,
давно ею вынашиваемым и вот только что обретшим потенциального
героя для воплощения.
Третье. Удивительно, но факт: это дурное предзнаменование, которое
она сама же для себя и отметила, нисколько ее не останавливает!
И вот уже спустя всего лишь минуту, как я уже отмечала, она живо
интересуется Вронским. Почему? Да потому что план уж больно хорош.
А страдания о дурном предзнаменовании для человека, склонного
к саморазрушению, на самом деле приятны, этакая щекотка для нервов,
игра.
Итак, «А ты давно знаешь Вронского?» – с живостью спрашивает она.
Давно, отвечает Стива, и мы все даже надеемся, что он женится
на Кити.
«Да? – тихо сказала Анна».
Вот оно! Сказала – тихо. Она ведь уже все давно придумала себе
и уже успела примерить это на Вронского – и вдруг этакое препятствие…
у него есть невеста, и эта невеста – ее родственница! Похоже,
ей придется оставить его в покое, ведь это же нехорошо, некрасиво,
подло, в конце концов, отбивать из прихоти чужого жениха, да еще
жениха родственницы, да к тому же откровенно позорить этим уважаемое
семейство Щербацких. Но как жаль… Ведь она уже настроилась на
Вронского! Неужели и впрямь придется отказаться от него?
И, встряхнув головой, «как будто хотела физически отогнать что-то
лишнее и мешавшее ей», она быстро уводит разговор в сторону.
Что же это за лишнее и мешавшее? Неужели внезапно возникшее чувство
к Вронскому, с которым она обязана теперь распрощаться – хотя
бы из приличия, хотя бы из жалости к Кити, хотя бы из уважения
к родственникам? Отнюдь. Лишнее и мешавшее ей – это как те самые
мысли о приличии, жалости и уважении. Потому что именно эти мысли
и мешают ей предвкушать удовольствие от грядущего триумфа и развлечения.
И она быстро переводит разговор на другую тему. Ах, она ведь была
так неосторожна – она слишком тихо спросила: «Да?» – это же могло
ее выдать, Стива мог невольно запомнить этот интонационный перепад
и понять причину ее расстроенности. И она тут же заговаривает
Стиве зубы, начиная обсуждать его домашние дела.
Какая мгновенная реакция. Реакция профессионального лжеца.
2. У Долли. Унижение и оскорбление Кити на балу
«Двойственная природа Анны просвечивает уже в той роли, которую
она играет при первом появлении в доме брата, когда своим тактом
и женской мудростью восстанавливает в нем мир и в то же время,
как злая обольстительница, разбивает романтическую любовь молодой
девушки».
Ложь Набокова
Эти слова Набокова я достаточно разобрала в своем предисловии.
А теперь поговорим о Толстом.
Ощущение лживости, фальши от Карениной прописывается Толстым довольно
быстро. Сначала мельком, а в конце романа буквально в лоб.
Вот Долли ждет Анну и раздумывает, принять ее или не принять.
Наконец она приходит к выводу, что принять: «Да, наконец, Анна
ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я о ней ничего, кроме
самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее
только ласку и дружбу».
И тут же, следом мелькает у нее важная для читателей мысль: «Правда,
сколько она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных,
ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе
их семейного быта».
Критики обожают приписывать это фальшивое мужу Анны – дескать,
фальшивое в их доме происходило от тягостной жизни с ним, от невозможности
быть с ним счастливой. Это неправда. «Фальшивое во всем складе
их семейного быта» – это первый авторский ключ к пониманию истинного
характера самой Анны. Но для того, чтобы это понять, нужно думать
не глазами.
Что же такое Анна на самом деле? Из одного только маленького рассуждения
Долли можно сразу же сделать единственно верный вывод: Анна вроде
бы дружелюбна и ласкова, она вроде бы добра и искренна, но все
это фальшиво – она только выглядит искренней, она только прикидывается
другом, а на самом же деле она вовсе не друг. И уже тем более
ни о каком такте и женской мудрости, выкопанных Набоковым незнамо
откуда, тут и речи быть не может, а есть только хитрость, сметливость
и изворотливость. Да и то не всегда.
Вот после некоторого внутреннего сопротивления Долли все-таки
решается на разговор – и Анна по ее репликам мгновенно улавливает
то, что нужно сказать, что Долли хотела бы слышать. Именно это
она ей и говорит. И все, в чем она убеждает Долли, есть полная
ложь. Она убеждает ее в том, что Стива любит свою жену, что ему
стыдно детей, что Долли для него божество, что он раскаивается,
что он даже готов убить себя – уж так ему больно и стыдно от своего
поступка с гувернанткой, и что это никогда больше не повторится.
И всю эту ложь Анна говорит с таким накалом доверительности и
искренности, это так легко ей дается, она настолько не мучается
своей ложью, что становится понятно: эта способность ко лжи вполне
органична для нее.
И только однажды она чуть было не стала по-настоящему искренней
– когда Долли случайно коснулась той единственной темы, которая
уже давно по-настоящему интересует саму Анну и к которой она так
чрезвычайно приблизилась в этот день при случайной встрече с Вронским:
«– Да, но ты простила бы?
– Не знаю, не могу судить...»
Но она тут же спохватывается – подобное сомнение сейчас совершенно
ни к чему, ведь оно может заставить Долли отказаться от прощения!
И тогда она с горячностью убеждает Долли: «Нет, могу, могу, могу.
Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и
так простила бы, как будто этого не было, совсем не было».
*
Итак, примирение супругов состоялось, и на сцене появляется Кити
– сестра Долли и, стало быть, родственница Анны, а главное – без
пяти минут невеста Вронского (и, разумеется, Анна помнит об этом).
А теперь мы посмотрим на механизм обольщения в действии:
«Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну,
но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем,
как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так
хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, – это она увидела
сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотою и молодостью, и
не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только
под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленною в нее, как способны
влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам».
Вот он, этот механизм. Сначала никакой демонстрации собственного
превосходства: сначала от Анны идет совершенно иной посыл – посыл
как бы искреннего восхищения другим человеком. Это моментально
располагает к себе. Именно это и видит Кити в первый момент –
она видит, что «она понравилась Анне Аркадьевне», и она видит
это «тотчас». Разумеется, такое щедрое признание собственных достоинств
– и от кого! от светской львицы! – сразу же подкупает и немедленно
вызывает чувство глубокой приязни и горячего желания так же искренне
и щедро восхититься в ответ.
Вот и все. Дело сделано. И вот уже Кити чувствовала то, что сама
же и придумала благодаря предварительным манипуляциям с собой
– «что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что
в ней был другой какой-то, высший мир недоступных для нее интересов,
сложных и поэтических».
Далее мы увидим этот якобы высший мир сложных и поэтических интересов,
который, разумеется, все та же фальшивка, однако отметим: Анна
умеет виртуозно внушать о себе именно такое представление.
Для чего же ей было нужно внушать Кити восхищение собой? Ну, во-первых,
восхищение – это приятно. Во-вторых, приятно знать, что ты умеешь
внушать восхищение собой, так почему бы не использовать для этого
любую возможность? А в-третьих (и это главное), человека, которым
восхищаешься, очень трудно заподозрить в подлости – настолько
трудно, что сам же и начинаешь его всеми силами оправдывать, уж
очень не хочется расставаться с иллюзией. Таким образом, умение
внушать к себе чувство восхищения для Анны еще и жизненно важно.
После Кити следуют дети – Анна очаровывает их всех, они липнут
к ней и буквально не отходят от нее. И это видят все – и это тоже
очень нужно манипулятору.
Существует расхожий миф, что дети плохого человека не полюбят
(как будто нельзя обмануть детей!). Именно этот миф используют
и составители учебника литературы господа М.Г. Качурин, Д.К. Мотольская:
«Особую прелесть Анны безотчетно чувствуют дети – чуткие души,
не терпящие лжи».
Таким образом, любовь детей, по мнению редакторов учебника, должна
лишний раз утвердить всех в мысли, что Анна добрая искренняя душевная
женщина, которая абсолютно не способна на гнусность и которую
любят все, и даже дети, потому что ее просто нельзя не любить,
и надо быть уж совсем бесчувственным человеком, чтобы не любить
такую душевную Анну.
Позже мы вернемся к этой «особой прелести» Анны, которую чувствуют
дети, и, с удивлением обнаружив, что любовь детей куда-то внезапно
делась, поразмышляем на этот счет.
А пока разговор заходит о балах – кстати, его внезапно заводит
сама Анна. Кити радуется предстоящим удовольствиям и говорит,
что на одном из балов будет очень и очень весело. «Так теперь
когда же бал?» – спрашивает Анна. «На будущей неделе», – отвечает
Кити.
Анна не случайно сама заводит разговор о бале, ей это очень важно,
потому что бал – прекрасная возможность «невинно» обольстить Вронского,
прилюдно отбив его у Кити, что, безусловно, пощекочет самолюбие
и заставит всю Москву еще долго говорить о победах Анны.
И сейчас, глядя на Кити и сделав все, чтобы внушить этой девочке
самые сердечные чувства к себе, она прекрасно знает, что на том
балу, о котором Кити так доверчиво и весело говорит, она спокойно
и холодно нанесет ей глубокую душевную рану.
А чтобы никто не догадался о ее истинных намерениях, она всячески
демонстрирует свою скуку в отношении балов и даже саму никчемность
для нее этих балов. А попутно мило краснеет в ответ на бесхитростный
комплимент, как бы и не ожидая его услышать и как бы уверяя Кити
в обратном. Однако Кити – простодушная доверчивая искренняя девочка
– не дура. И она все-таки замечает, что Анна знала, что именно
Кити скажет дальше («Кити заметила, что Анна знала, какой последует
ответ»), и стало быть, это не могло явиться для Анны такой уж
неожиданностью, как она хочет это показать…
Но спектакль продолжается. «Я очень рада буду, если вы поедете»,
– доверчиво продолжает Кити. «По крайней мере, если придется ехать,
я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие...»
– отвечает Анна, в глубине души наслаждаясь той нехорошей двусмысленностью,
которую уже приготовила она своей жертве, этой глупенькой Кити,
и о которой та и не догадывается сейчас.
И чтобы получить это удовольствие сполна, она продолжает, забавляясь
доверчивостью жертвы: «А я знаю, отчего вы зовете меня на бал.
Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтобы все тут были,
все принимали участие». Кити открыто соглашается, что да, мол,
жду многого. И Анна с тайным наслаждением продолжает вонзаться
в еще ничего не подозревающую Кити:
«– Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне
очень нравится, – продолжала Анна, – я встретила Вронского на
железной дороге.
– Ах, он был там? – опросила Кити покраснев. – Что же Стива сказал
вам?
– Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада».
Кити и не догадывается, что все эти поздравления, все эти «очень
была бы рада» не более чем хихиканье над ней.
Далее Анна пересказывает ей отзыв матери Вронского, и этот отзыв
имеет для самой Анны, для ее планов очень большое значение, потому
что из этого отзыва видно, что Вронский – «это рыцарь».
«– Что ж мать рассказывала вам?
– Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что
это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать
все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное
сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, – сказала Анна, улыбаясь
и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции.
Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно
было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то
касающееся до нее и такое, чего не должно было быть».
Данный отрывок еще раз доказывает, что те 200 рублей, что Вронский
отдал вдове погибшего, вовсе не являлись никаким его «подарком»
для Анны (надо быть удивительным пошляком, чтобы придумать такое),
а что этот поступок находится в давнем ряду точно таких же поступков
Вронского и был совершен вне всякой зависимости от Анны. И что
этот его поступок был даже и неприятен Карениной (скорее всего,
это связано с ее предчувствием точно такой же собственной смерти
под вагоном).
*
Вечером примирившиеся супруги и все остальные собрались за чаем.
Было уже половина десятого. И тут произошло небольшое событие
– вроде бы самое простое, но которое почему-то всем показалось
странным: вдруг раздался звонок и вошел Вронский.
«Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство
удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее
в сердце».
Вронский как будто зашел на минуту и как будто по делу с Степану
Аркадьичу, но… «он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его
лица сделалось что-то пристыженное и испуганное».
Отметим: удовольствие и страх – у Анны, пристыженность и страх
– у Вронского. То, что Вронскому было стыдно (он ведь ухаживал
за Кити, а пришел-то к другой – и прямо на глазах у Кити), Анне
было в удовольствие. А страх – это был страх азарта и страх возможной
расплаты за него.
На все уговоры Стивы войти Вронский категорически отказался и
очень быстро ушел. А Кити покраснела – она была уверена, что Вронский
пришел из-за нее...
*
День бала настал. Кити выглядит прелестно! Она возбуждена, она
вся в предвкушении и праздничном волнении – она уверена, что на
этом балу Вронский сделает ей предложение!..
Войдя в залу, она сразу же обнаруживает некий кружок, собравшийся
вокруг Анны – и если Кити выглядит прелестно, то Анна выглядит
ослепительно! Она в черном, до великолепия простом, сильно декольтированном
платье. И платье, и прическа ее сделаны так, чтобы быть незаметными,
чтобы не перебивать, а подчеркивать красоту Анны – «это была только
рамка», говорит Толстой (сильно декольтированная рамка), «и была
видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая
и оживленная». Нет, она явно не скучала на балах, как она пыталась
внушить это Кити!
Там же, на балу, и Вронский. И, увидев его, Кити вдруг понимает,
что вот уже несколько дней он не заходил к Щербацким… Не лишенная
наблюдательности, она понимает и то, что Вронский на этом балу
как будто… как будто не совсем тот Вронский, к которому она привыкла.
Да и с Анной творится что-то не то… Кити начинает предчувствовать
что-то нехорошее.
Она подходит к Анне, и та «с нежною улыбкой покровительства» одобряет
ее туалет и красоту. С нежной улыбкой покровительства! При этом
прекрасно понимая, зачем она пришла на этот бал и что она сейчас
сделает с Кити. (Манипулятор, задумав подлость в ваш адрес, всегда
становится с вами чрезвычайно нежен.)
Подходит и Вронский. Он кланяется Анне, но она… как бы не замечает
этого и быстро уходит танцевать с другим. Но Кити мгновенно чувствует,
«что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского».
И вот Анна танцует с другим, они же стоят и смотрят на нее. Кити
ждет, когда Вронский, как обычно, пригласит ее на вальс, однако
время идет, а он не приглашает. Она удивленно посмотрела на него
– «он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что
он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка
остановилась». Но музыка еще звучит в душе Кити, она с любовью
смотрит на Вронского – и он… не отвечает на ее взгляд! (И еще
долго потом «этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула
на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал
ее сердце».)
На мазурку он ее также не приглашает. Но Кити – внимательной умной
Кити! – так не хочется думать о плохом (да это и не в ее натуре,
она всего лишь внимательна, но не подозрительна), да собственно
и никаких серьезных причин для этого вроде бы и нет, так, одни
мелочи, да и вообще она уверена: он обязательно ее пригласит!
И больше того: что-то снова подсказывает ей, что во время мазурки
он обязательно сделает ей предложение!.. И она отказывает в мазурке
аж пятерым.
Атмосфера праздника увлекает ее, она весела и возбуждена. Анна
давно потеряна ею из виду, как вдруг в одном из танцев она снова
видит ее – танцующей с Вронским. И поначалу этот факт не вызывает
в Кити никаких подозрений, она только отмечает в Анне возбуждение
от успеха и что она буквально пьяна этим успехом – буквально пьяна!
И все-таки, думает Кити, что-то здесь не так. Уж слишком возбуждена
Анна, уж как-то чересчур.
Она видит танцующего с Анной Вронского; она видит, как «каждый
раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск,
и улыбка счастья изгибала ее румяные губы». Посмотрев же на Вронского,
Кити и вовсе приходит в полный ужас – «он теперь каждый раз, как
обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред
ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха».
И тут страшная догадка обжигает ее… Свет померк для Кити, она
чувствует себя крайне подавленно и только из воспитанности продолжает
улыбаться кому-то.
Наступает время мазурки, и все уже понявшая Кити в довершение
ко всему приходит в отчаянье. Мало того что Вронский танцует мазурку
с Анной, так еще она сама отказала всем, и теперь вряд ли кто-нибудь
ее пригласит. Унижение и стыд переполняют ее. Все видели, как
Вронский ухаживал за ней. И теперь все видят, как он с легкостью
забыл о ней ради блистательной Анны.
А тут и подруга, графина Нордстон, заботливо подливает масла в
огонь: «Он при мне звал ее на мазурку, – сказала Нордстон, зная,
что Кити поймет, кто он и она. – Она сказала: разве вы не танцуете
с княжной Щербацкой?»
Таким образом, Анне оказалось мало того факта, что он ее пригласил,
ей потребовалось еще и непременное словесное подтверждение Вронского
ее превосходства над Кити – что он помнит о Кити, но что он сознательно
променял ее на великолепную Анну.
И вот Кити горестно смотрит на забывшего ее Вронского и снова
и снова видит на его лице «то поразившее ее выражение потерянности
и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата».
Она смотрит и на Анну – и Анна прелестна, но… «но было что-то
ужасное и жестокое в ее прелести», отмечает Кити (отметим же и
мы вместе с ней).
Горе так придавило Кити, что даже изменило ее лицо, да так, что
Вронский, встретившись с ней, не сразу ее узнал. Разумеется, он
все понял. Однако переживания Кити оставили его… равнодушным.
Разумеется, эту перемену в Кити видит и Анна. И что же она делает
дальше? А дальше она выходит в круг для исполнения танцевальной
фигуры и дружески – очень, очень дружески! – зовет Кити туда же.
И Кити – подавленная, раздавленная всем этим унижением – в этот
круг выходит как завороженная. Выходит – испуганно глядя на Анну…
«Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку.
Но заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления
ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила
с другою дамой».
Вот вам и всё. Смотрела прищурившись – будучи как бы настороже,
как бы оценивая ситуацию, как бы внимательно и быстро просчитывая,
чего ждать от Кити. Однако, увидев, что Кити вовсе не намерена
и даже просто не в состоянии поддерживать этот неуместный и фальшивый
тон дружбы, что вместо этого Кити отвечает ей выражением вполне
уместного удивления (да и то правда, разве так ведет себя друг?),
и понимая, что из-за этого может выйти для нее неприятность, Анна
бросает Кити – спокойно отворачивается и заговаривает с другими.
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – снова
отмечает Кити.
Итак, практически в самом начале романа незамедлительно следуют
две откровенные, не оставляющие сомнений характеристики Анны:
ужасное и жестокое, чуждое и бесовское – вот что дважды отмечает
в ней Кити, персонаж, доверие к высокодуховным качествам которого
усиленно подчеркивается Толстым.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

