Via Fati. Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Мир есть бесконечность, наделенная универсальным порядком. Прибавляя к ней что-либо, или изымая из нее что-либо, не получишь ничего, кроме того, что имелось и до тебя, - бесконечности, наделенной универсальным порядком.
|
Элина Войцеховская - добрая волшебница, живущая на юге Франции. Это важное обстоятельство, потому что и стихи и проза у Войцеховской южные - яркие, сочные, пахнущие цветами и травами, высоким небом и гармоничными ландшафтами. Войцеховская - мистик, увлечённый античностью и средневековьем, и совершенно не скрывает этого, в прозе её происходит масса чудесного, и всё это, будто бы, в порядке вещей. Словно бы писательница учит нас тому, что эпоха чудес не прошла, всё ещё только начинается, всё ещё может произойти - не только с кем-нибудь на стороне, но непосредственно с нами. Это очень чувственная и красивая проза. Да, сюжетная, да, традиционная, да, барочно избыточная. Но мне кажется, что именно таких текстов нам сегодня особенно не хватает. В романе Элины Войцеховской, чья подробная структура с эпиграфами и долгими зачинами, напоминает лучшие образцы серебрянного века, три части. Так что публикация будет долгой, настраивайтесь, садитесь поудобнее, продолжение не заставит себя ждать. |
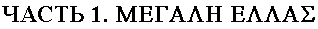
Народная книга о докторе Фаусте, 21.
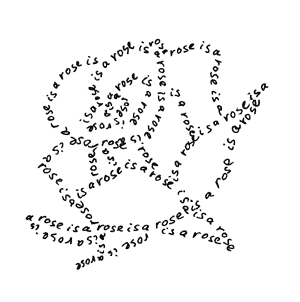
|
 Базельский Totentanz, "Император", автор не известен. |
Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Узкая изогнутая улица была пустынна. Хочу ли я, чтобы меня не
замечали? — задумался я и невольно замедлил шаг. Но кто не
замечал, смертные, или кто–то другой? И кого не замечал? Меня,
какого меня? Меня идущего, меня ушедшего, меня, не желающего
возвращаться? Я ускорил шаг, недовольный собой оттого, что увяз
в пустопорожнем солипсизме, вместо того, чтобы подумать,
что надо бы поторопиться. Спешить я должен был всего лишь к
себе домой и всего лишь потому, что Кора, ее величество,
соизволила назначить мне вчера свидание.
Было еще светло. Предзакатное солнце весело покровительствовало
свежей пестренькой, под антик, черепице, прибавляя
возвышенно–мгновенные переливы красок к ремесленным, притворно
неизменным. Я проходил мимо превосходного старого особняка,
занимаемого, увы, присутственным местом. (Я не люблю современной
архитектуры и еще меньше люблю присутственные места, но если
присутственное место оккупирует красивый старый дом, я
воспринимаю это как надругательство над моим личным достоинством.)
Чугунная ограда особняка служила опорой цветущим розовым
кустам, одни из которых были чуть выше, а другие — чуть ниже
моего роста. Я приостановился понюхать розы. Присутственные
часы, как будто, кончились, чиновники разошлись по домам, и вряд
ли кто–нибудь станет отгонять подозрительного бродягу
(любой неслужащий — бродяга, а любой бродяга подозрителен) от
казенных ароматов.
Погрузив нос в розу и закрыв глаза, я почувствовал как что–то
раскатисто громыхнуло у меня над головой, и на меня, на розы, на
улицу и на черепицу упали тяжелые теплые капли. Я позволил
себе закрыть глаза на целые две минуты, и за это, стремящееся
к бесконечности время, небо заволокла невесть откуда
взявшаяся черная туча. Гроза, никаких сомнений, гроза. Дождь умеет
противоречить людям и даже солнцу, радостно замечал я.
Намокающая черепица мало–помалу приобретала ровный темный
оттенок, а если гроза окажется недолгой, и солнце успеет еще раз
выглянуть сегодня, то черепица вспыхнет светлым и мокрым
предзакатным восторгом.
Дождь усиливался. Надо идти, обреченно вздохнул я и прикоснулся в
последний раз к розовому кусту. Внезапный и очень сильный
порыв ветра отшвырнул меня назад к решетке и заставил ухватиться
за нее. Тяжелая пурпурная роза, сорванная ветром и дождем,
упала к моим ногам. Я поднял ее, поднес к глазам и,
повинуясь дешевому порыву, стал сравнивать блеск капель воды на
лепестках розы с блеском солитера на моем левом мизинце. Дождь
не замедлил превратиться в ливень, и обреченная, умирающая,
почти без стебля роза запросила пощады: в моих силах было
подарить ей еще два дня отцветающей жизни.
Я перескочил через улочку, за каких–нибудь несколько мгновений
превратившуюся в бурлящий канал, и, очутившись у дома напротив,
поднялся на крыльцо и спрятался под навесом подьезда.
Отряхнувшись для порядку, я проверил, цела ли роза, и стал
подумывать, не положить ли ее в карман. Если я опять пойду — нет,
поплыву, идти уже невозможно — под ливнем, он несомненно
уничтожит розу, а в кармане она может измяться и тоже погибнуть
ранее отведенных ей двух дней.
Что–то, всхлипнув, шевельнулось у меня за спиной. Я отодвинулся и
обернулся. Дверь (я и не заметил, что прислонился к двери)
распахнулась, запахло старым деревом и прокисшим вином, и из
темного проема прозвучало:
— Входите, входите, что же вы не входите?
Голос был печальным, скрипучим и тоже отдавал старым деревом. Я
шагнул внутрь, повинуясь зову и не особенно задумываясь над тем,
что делаю. Ощупью я обнаружил лестницу, ведущую вниз, и,
подбодряемый незнакомым голосом: «Да–да, сюда, идемте же», —
ступил на нее.
Зажегся неяркий свет, и запахи сразу обрели цвет и форму. Запах
старого дерева исходил от бесконечных темных многоэтажных полок,
а запах вина — нет, конечно, не от неисчислимого количества
честно закупоренных узнаваемой формы сосудов,
располагающихся на этих полках — то был бунтарский дух, вырвавшийся в
незапамятные времена из других, менее удачливых сосудов,
разбитых, будем считать, по чьей–то оплошности. Вот как, я не раз
проходил этой улочкой и никогда не замечал на ней винной
лавки. Но кто же пригласил меня сюда?
Я не сразу заметил прислонившегося к ребру полок высокого, чуть
сгорбленного человека с внешностью обедневшего пожилого гранда.
Он смотрел на меня, прищурясь, и еле заметно понимающе
кивал.
Такие продавцы или, скорее, хозяева любят, когда клиенты неторопливо
беседуют с ними, подумал я, но о чем же мне с ним говорить?
Хочу ли я, чтобы меня не замечали? Нет, это уже старо,
после этого случились буря, роза и эта вот лавка, к тому же меня
все равно, кажется, заметили.
— Я вам тут устроил настоящее наводнение, — произнес я, наконец,
кивая на лужу, натекшую с меня, — ее сорвало ливнем, — прибавил
я, поскольку хозяин (теперь я был уверен, что господин,
приютивший меня, был хозяином лавки) с любопытством перевел
взгляд на розу.
— Не беда, я затопляю мир куда менее чистой влагой, — последовал ответ.
— Зачем же вы торгуете вином? — я не привык церемониться с торговым сословием.
— Я взял на себя грехи мира, — развел руками собеседник, — торговать
хлебом куда преступнее, а честнее всего, кажется, торговать
бриллиантами.
— Вы видели меня через окно, когда я разглядывал бриллиант? —
откровенно спросил я, — и, позвольте полюбопытствовать, разве
нельзя прожить, ничем не торгуя?
— Увы, в наших широтах прожить не торгуя невозможно. В окно я смотрю
редко, а если бы и смотрел... бриллианты не существуют на
расстоянии. Расстояние для бриллианта — все равно, что время
для капли воды, — оно его иссушает.
— Вы, кажется, философ?
— Ах, нет, нет, я не читал ничего, кроме бутылочных этикеток. Мой
отец торговал вином, мой дед торговал вином. Мой дядя был
поэтом, но тс–с–с, это позор семьи, он умер в белой горячке.
— Я поэт, — вздохнул я, — как вы полагаете, я тоже умру в белой горячке?
— Вы происходите из семьи, причастной к вину?
— Не особенно, — пожал я плечами.
— В таком случае, нет. Семья — это круг, как ни разрывай его, он все
равно сомкнется.
— Понимаю, поэтому вы и не разрываете круг, чтобы не умереть в белой горячке.
— Да, примерно так. Но мне живется свободнее, чем предкам, как–никак
мой дядя был поэтом и расширил круг.
— Знаете, — сказал я, — у меня почти нет с собой денег, а бриллиант
на расстоянии — сами понимаете... Но все же, — я высыпал
содержимое кошелька, — позвольте мне взять на себя часть ваших
грехов, или, напротив, дать вам согрешить наилучшим образом,
я скверно разбираюсь в торговле и в грехах, а уж в торговых
грехах и вовсе плох.
Торговец усмехнулся, сгреб деньги, не пересчитав их, уверенно побрел
к дальней полке и через мгновение вынес мне пыльную
бутылку.
— Это старое вино, — сказал он, — я ждал поэта.
— К вам не ходят поэты? — удивился я.
Торговец грустно усмехнулся в ответ. Я стал прощаться.
— Но снаружи дождь, быть может, вам лучше переждать его здесь?
— Я должен идти, — твердо сказал я, — у меня назначена встреча. С
дамой, знаете ли.
— У поэта должна быть возлюбленная, — флегматично закивал
собеседник, — у торговца вином возлюбленной быть не может. А мой дядя,
представьте, умер не от того, что был поэтом и не от того,
что бросил виноторговлю, а от того, что у него не стало
возлюбленной. Его возлюбленная оставила его, когда он бросил
торговлю, и вышла замуж за его младшего брата, того, который
унаследовал дело. Если вы твердо уверены, что вам следует
уйти, позвольте порекомендовать вам воспользоваться черным
ходом, он ведет не на ту улицу, с которой вы вошли, а на
параллельную, которая расположена выше, и вам не придется брести по
колено в воде, а сверху прикроетесь пластиковым мешком, — и
печальный сын беглой возлюбленной вручил мне и в самом деле
замечательных размеров мешок и повел меня какими–то
коридорами.
— Вы зайдете еще? — спросил он, открывая дверь.
— Не знаю, — нахально соткровенничал я, — поэт у вас уже побывал,
всякий, кто придет после, поэтом не будет, — а сам не мог
понять, почему мне не хочется возвращаться сюда.
Похожий на монаха и на кучу мусора одновременно, я добрел, наконец,
до подъезда и с опаской оглянулся. Ни Коры, ни ее машины не
было. Несмотря на все забавные препятствия: бурю, розу,
вино, мой собственный бриллиант, наконец, который тоже некстати
отвлек мое внимание, я опоздал всего–то минут на пять и
трудно было вообразить, что Кора удалилась, не дождавшись меня.
Она не станет унижать меня моим же собственным опозданием, с
облегчением подумал я, отперев входную дверь и отряхиваясь,
подобно, вероятно, обиженному псу. Я снял с себя мокрое, надел
сухое, вытер осторожно бутылку, а розу поместил в низкий стакан
с водой. Сколько избитых символов сразу: роза, непогода,
торговец, претендующий на оригинальность, старое вино, и все
как–то помимо моего участия, вздохнул я. С тех пор, как я
вернулся домой, прошло уже десять минут, и я подумал о том, что
еще через минуту начну, пожалуй, беспокоиться, но звонок
раздался раньше, чем через минуту.
Заблуждение о природе поэтов — вот самый возвышенный вид
заблуждений, и это же причина моей неприязни к торговцу: я никогда не
смог бы признаться ему в том, что, собственно, и нет у меня
никакой возлюбленной, а, между тем, я все еще далек от белой
горячки.
Хотя меня совершенно не интересует, отчего мне неприятен именно этот
торговец. Неприятен и всё, как любой другой торговец. Явись
передо мной хоть ангел небесный в образе торговца, прогоню
не задумываясь, — рассуждая подобным образом, я открыл
дверь.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

