Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
|
В первой главе (кстати, обратим внимание, что повествование идёт от первого лица межского рода) некий, пока что не названный поэт спешит на встречу со своей возлюбленной Корой. Идёт дождь, к ногам поэта падает роза. По дороге на свидание поэт заглядывает к философствующему виноторговцу. Всё это может обозначать всё, что угодно: первая глава написана за-такт, до начала развития сюжета. Поэтому поспешим узнать, что же там происходит дальше. Продолжение следует. |
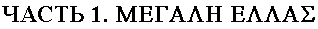
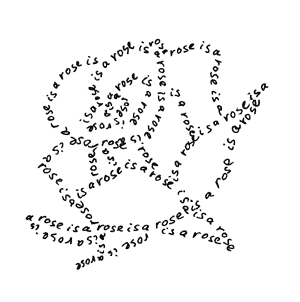
|
 Галина Лукшина. "Королева" (1996) |
— Представь, — слегка отряхиваясь, говорила только слегка промокшая
Кора (жаль, что она не вымокла как следует, вздохнул я,
тогда я имел бы право предложить ей помощь в избавлении от влаги
и от одежд заодно), — представь, у моей машины заглох
мотор, чего никогда прежде не случалось. Я позвонила тебе, чтобы
отменить встречу, но ты не ответил, а мотор заработал, как
ни в чем ни бывало, стоило мне позвать на помощь.
— Наверное, кому–то нужно было, чтобы мы не встретились сегодня? —
флегматично протянул я, — или чтобы встретились, наоборот...
Проводив ее к креслу и откупорив пришедшуюся кстати бутылку, я
развалился на диване, стараясь принять небрежную позу. Я
выжидающе разглядывал Кору, которая уже обсохла, приобретя вполне
отутюженный.
Кора не могла появиться просто так. Каждый ее визит, или каждое
назначаемое ею свидание неизменно были связаны с
обстоятельствами из ряда вон выходящими. Я готов был в три минуты собраться
и, не глядя на погоду, отправиться в место, указанное
Корой, будь то королевский тронный зал, или тропический пляж, или
просто кофейня на углу главной площади.
Кора вглянула мельком на бутылку и едва отпила из своего бокала. О,
тут я не ждал восторгов. Дорогая бутылка старого вина — это
отесанный влагой традиции осколок буржуазно–снобистской
добропорядочности, но никак не предмет искушенного восхищения.
— Ты пишешь о Via Fati? — прозвучало наконец.
Дикция ее была безупречна, тон ровен и бесстрастен. Я готов объявить
бессовестным обманщиком всякого, кто взялся бы утверждать,
что лицезрел Кору во гневе, или Кору в безудержном весельи —
за семнадцать лет нашего знакомства мне это счастье не
выпало ни разу. Вот и я, я тоже становился бесстрастным. Вопрос
не показался мне странным. Столь же мало заботило меня и то,
откуда, собственно, произошла утечка информации. Но сцену
следовало доиграть.
— Любопытно, кто из моих недостойных знакомцев распространяет столь
гнусные слухи? — грозно вопросил я насмешливо–трагическим
тоном, ибо именно он был принят у меня в разговорах с Корой, —
кто предал меня, Ганс или Стефан? Я никому другому ничего
не говорил, — добавил я с интонацией обиженного дитяти.
Кора ухмыльнулась в ответ. Бровки вздернулись и опустились,
возвращая мину светской дамы. Я имел неосторожность повторить
вопрос. Бедной Коре пришлось опять пустить в ход мимические мышцы.
На этот раз брови вознеслись высоко и остановились в
укоризненном недоумении. Лицо вытянулось. Нехотя приоткрылся рот.
Идеально напомаженные губы царицы, казалось, медлили
следовать примеру уже, неотесанностью царедворца, разомкнутых
челюстей. Я успел потупить взор и раскаяться в назойливости,
когда назидательно и холодно прозвучало:
— Мне сказал один из коллег. Ты вряд ли с ним знаком. А кто из твоих
дружков проболтался, мне неизвестно. Ты уже что–нибудь
написал? Можно взглянуть? — прибавила она, чуть смягчившись.
Ну вот, начинается, только и оставалось подумать мне. Кора, стоящая
у истоков всякой информации, Кора — законодательница мод, на
все навешивающая ценники, принялась за дело. Одно из
затертых латинских выражений она уже успела сегодня употребить.
Теперь и мне можно, раз вечер все равно утратил тихую
варварскую невинность. Если я признаюсь ей, что историческая справка
почти готова, она, несомненно, выманит ее у меня, а я не
люблю показывать сырые рукописи. Ornatus sum.
— Ornatus sum, — повторил я вслух, — твоя агентура сработала
превосходно, но факты явно приукрашены. Я и правда подумывал писать
об этом, но едва начал и, похоже, ничего из этого не
получится. Кажется, писания мои готовы выродиться в большой
журналистский очерк.
Кора была не из породы спорщиков и, тем более, не из породы
просителей. Она тут же заговорила о другом.
— Ты поедешь туда?
Принадлежность к цеху сочинителей занятным образом не приохотила
меня к вранью, а Кора была не болтлива. Это не рукопись,
другое, подумал я и решил быть правдивым.
— Твоя проницательность достойна восхищения. Пожалуй, — брякнул я и
тут же пожалел о сказанном. Мысленно съежившись, я ждал
презрительно–возмущенной тирады, которой должна была разразиться
моя собеседница в ответ, что–нибудь вроде того, что уже
наговорили мне Ганс со Стефаном, но гораздо изысканнее, гораздо
обиднее: «Итак, тебя стали волновать дешевые сенсации! Тебе
мало того, что тебя узнают на улицах полтора учителя
словесности и столько же газетчиков, тебе захотелось мировой
славы! Тебе неловко выставляться перед публикой без клейма
мученика на челе?» Я боялся даже вообразить, какой силы поток
холодного презрения готов обрушиться на меня, и покаянно опустил
голову, подставляя ее — нет, не под меч — под ведро
ледяного кофе. То, что произошло затем, заставило меня не только
инстинктивно вздернуть голову, но и сменить лежачую позу на
сидячую.
— Видишь ли, я бы хотела поехать с тобой,— тихо, без тени
просительных интонаций в голосе произнесла Кора. От нее не укрылась
моя растерянность, но, судя по всему, она милостиво решила не
переходить в наступление.
Я сидел на диване в позе драматического героя, принимающего роковое
решение. Не двигалась и Кора. Она была царственно спокойна и
красива как греческая статуя (если только кто–нибудь
отважится обрядить статую в прекрасно сшитый английский костюм). Я
продолжал смотреть на нее, впав в одно из тех состояний
телесного оцепенения, которые вызывали у меня вещи,
по–настоящему меня трогавшие.
Я не совсем понимал, могу ли я еще гордиться принадлежностью к ее
гарему или представляю для нее интерес не больший, чем
представляет для падишаха старшая, пусть умная и родовитая жена,
когда у него есть двадцать новых жен и три сотни рабынь
впридачу. И, увы, это было мне не совсем безразлично.
Я слишком ясно помнил цвет ее кожи, когда мы вдвоем лежали на
янтарном песке греческого острова. Я видел, что и сейчас, в начале
лета, холодного смутного лета, в наших, отдаленных от
экватора, широтах, она имеет тот же оттенок, почти тот же оттенок
— добавляю я, чтобы удовлетворить самую любопытную и
бесцеремонную составляющую своего еgo — поскольку простым смертным
не дано было заметить перемен в облике Коры. Кора была
такой, какой она была. На нее, как на драгоценный камень
чистейшей воды, даже самая неблагоприятная среда бессильна
распространить тлетворное влияние.
И только я — око мира, как изволил титуловать меня мой приятель
Стефан — отваживался бормотать себе под нос, одинокими зябкими
вечерами, что во внешности ее все же чего–то не хватает,
чего–то, что было в ней раньше, — медового сияния юности.
Всматриваясь в Кору, я не мог сообразить, стоит ли пропеть протяжный
гимн цивилизации, бесцеремонно отобравшей у солнца его
монопольное право определять цвет наших тел. Но я не мог не
признаться себе, что мне приятна корина смуглость. Признаться в
этом ей, как и обсуждать с ней какие–либо детали ее
внешности я не мог. Вероятно, из–за одной сцены, разыгравшейся у
меня на глазах много лет тому назад .
Мы пили кофе в летнем кафе. Какой–то подвыпивший, не самого
джентльменского вида господин имел наглость подсесть к нашему
столику и, не стесняясь моего присутствия, обратиться к Коре с
пространной речью, суть коей сводилась к тому, что ему,
господину, весьма по вкусу такие–то и такие–то, выражаясь помягче,
детали кориной внешности, и он был бы не прочь рассмотреть
их получше. Мой хохот и уничижительные взгляды Коры ничуть не
подействовали на ловеласа, и я с грустью решил, что мне
придется отколошматить честного пролетария, но тут заговорила
Кора:
— Mоnsiеur, мы с вами знакомы?
— Нет, — пробормотал ошарашенный соблазнитель.
— Вы, видимо, имеете, monsiеur, сообщить что–то чрезвычайно важное,
раз находите возможным обращаться ко мне, не будучи мне
представленным? — нарочито вежливо выговаривала она, и с каждым
словом незадачливый любовник мрачнел, поспешив ретироваться,
нейтрально выругавшись, еще до окончания фразы.
— К счастью, это бывает нечасто, — чуть устало произнесла Кора,
когда он отошел, — обычно они понимают, что я не из их сословия.
Этот тип оказался слишком тупым, ему пришлось обьяснить.
Проклятая демократизация — ко благу ли? — сделала их, между
тем, просвещеннее. Прежде плебеи легко могли узнать патрициев
по платью, теперь же им пришлось выработать второе зрение на
этот счет. Заметь, если бы я сказала что–то вроде: «Куда ты
прешь со своим свиным рылом, холоп», — это бы только
ненужно разъярило его. Быть может, он полез бы в драку.
Я всегда вспоминал того господинчика, когда мне приходилось
обхаживать дам. Увы мне, миру и глупому господинчику: большинству
моих знакомых противоположного пола было бы приятно, обратись
к ним точно такой же воздыхатель с точно такими же
«комплиментами» и пропозициями. Бедняге просто не повезло и обвинять
его в глупости было бы чрезмерным. С тех пор я был
положительно не способен обсуждать с Корой ее внешность, но думать об
этом не мог запретить себе даже я сам. Я знал, что волосы
ее ровно такой длины, что, если их распустить по обнаженной
спине, они то открывают взору, то прячут опять округлое
родимое пятнышко, расположенное на правой лопатке. Я помнил запах
острова, запах моря и неожиданное мое тогдашнее счастье.
Роковое слово «возлюбленная» опять просилось на уста.
— Мне пора уходить, — твердо произнесла Кора.
Нет, значит сегодня — нет. Умолять было бесполезно, спрашивать о
новой встрече — бессмысленно. Я выглянул в окно. Дождь
окончился, и последний луч заходящего солнца лениво шарил по мокрой
площади. У меня не оставалось ни малейшего повода задержать
ее.
Кора взялась за телефон. Прежде каждый ее визит заканчивался
просьбой воспользоваться моим телефоном, теперь ей не нужно было от
меня даже этого. Телефон помещался в ее сумочке и какой–то
незнакомой собеседнице — я слышал отзвуки женского голоса,
доносившиеся из аппаратика — было доложено, что Кора скоро
прибудет. Зачем она разговаривала по всепроникающему этому
телефону отсюда, а не, положим, из своей машины, мирно стоящей
у подьезда? Она дает понять, что мое время кончено? Но
почему так грубо? Увлеклась ли она дешевыми эффектами, или я все
еще кажусь ей неотесанным мужланом? Но все же что–то
переменилось, что–то определенно переменилось.
— Via Fati? — стоя в дверях, вопросительно–требовательно произнесла
Кора, и мне показалось, что голос ее слегка дрогнул.
— Я позвоню тебе, — бормотал я, вглядываясь в ее лицо, — я позвоню тебе завтра.
— Хорошо, — ответила она и, тихо попрощавшись, вышла за дверь, не
поцеловав меня на прощанье.
Я взглянул на часы. Начало девятого. Да, конечно, соседняя церковь
начала бить восемь как раз в тот момент, когда Кора
произносила это свое: «Мне пора уходить». Меня бессовестно взяли за
шиворот и, потряся, как следует, швырнули на землю, да и
бросили так одного, предоставив подсчитывать синяки. Меня
вырвали из круга привычных занятий, из общества мною же выдуманных
персонажей, и теперь мне предстояло самым глупым и негодным
из смертных провести этот одинокий вечер.
Мне было настолько не по себе, что я подумывал пригласить к себе
одну из тех моих знакомых, которые готовы были явиться по
первому моему зову, лелея надежду, что когда–нибудь, быть может,
я позволю им остаться навсегда. Но мне удалось не пасть
столь низко в тот вечер.
Я отключил телефон, порылся в бумагах и стал набрасывать
стихотворение, считая свое состояние нехорошим, но не вполне
бесплодным. Я смотрел обрывки какого–то гангстерского фильма. Я допил
бутылку, подумал немного о белой горячке и, наконец, в
слезах, заснул.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

