Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
|
Мы продолжаем публикацию большого и мистически закрученного романа. Краткое содержание предыдущих глав. Некий поэт, от лица которого ведётся повествование, собирается в Грецию - для того, чтобы написать текст о Via Fati. Этим путешествием активно интересуется возлюбленная поэта - странная девушка Кора. Поэт влюблен в Кору ещё с университетских времён, когда они уже путешествовали в Грецию один раз. Повествование обращается в прошлое - перед тем, как отправиться в путешествие, поэт активно вспоминает то, предыдущее... Именно с этого воспоминания и начинается четвёртая глава. |
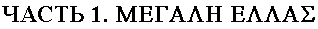
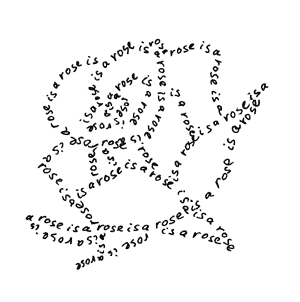
|
 Галина Лукшина. "Луна" (1995) |
Разбудила меня, посреди бурного сна, стюардесса, с требованием
застегнуть ремень. Я не сразу вспомнил, где нахожусь, и что за
полузнакомая барышня сидит со мной рядом. Барышня же, свежая и
ничуть не уставшая, смотрела на меня, улыбаясь, и молчала.
Уж не разговаривал ли я во сне? — испугался я, но спросить
не решился.
Я был сонным и вялым, когда мы очутились в Афинах и погрузились в
такой силы зной, что он поначалу представился холодом и вызвал
дрожь у нас обоих; надоблачная дрема не освежила меня. Я
звонил маме, Кора не звонила никому.
— Куда теперь, на острова? — спокойно спросила она.
Значит, она не намерена пока расставаться со мной, облегченно
вздохнул я и ответил, что собираюсь провести пару дней в Афинах,
потом — на острова.
Кора кривой ухмылкой ответила на мое предложение выбрать гостиницу
подешевле, но спорить не стала. Что же, дочь богатых
родителей? — как это некстати. Я пристальнее вгляделся в ее наряд. Я
был наивен тогда и не всегда умел отличить дорогие вещи от
дешевых. Одежда выглядела обыкновенной, но вполне могла
происходить из дорогого магазина. Маленькие серьги с бесцветными
камнями — бриллианты? Маленькое колечко с таким же камнем
на среднем пальце правой руки — опять бриллиант? Других
украшений на ней не было. К часам я по тогдашней своей
неискушенности приглядываться не стал. А сейчас мне мучительно,
невыносимо хотелось знать, какой марки часы носила она тогда.
Молодая девица могла бы одеться и поярче, опять гаденько отметил я
про себя, вспоминая ядовито–розовые штаны и пластиковые
висюльки своих бывших подруг. Кора, наконец, согрелась, и куртка
была отправлена в сумку, где прикрыла собой что–то светлое и
яркое. Не все так ужасно, подумал я.
Мы зашли в первую попавшуюся гостиницу старого города, показавшуюся
стильной и недорогой. Я, по обязанности джентльмена, вступил
в переговоры с хозяином — мелким, неприятным господинчиком
и не знал, что, собственно, ему сказать и какие комнаты
спрашивать. Но он опередил меня бойкой фразой: «I havе a good
room», — и жестом увлек нас за собой.
Ведомые хозяином, мы прошли узким беленым коридором, устланным
пестрой ветхой ковровой дорожкой, спустились на несколько крутых
ступенек и оказались, наконец, в большой продолговатой
комнате, добрую половину которой занимала старинная деревянная
кровать; грубоватая икона висела над ней. В другой половине
комнаты располагался пожелтевший от времени мраморный
умывальник, над которым нависал красиво изогнутый единственный кран.
Лет двести, как минимум, — автоматически отметил я. Подле
умывальника помещался стол, который мог бы украсить как
городскую свалку, так и лавку антиквара, и пара стульев, на
которые мы не сразу решились сесть. Забранное густыми свинцовыми
переплетами окошко, нижний край которого находился на уровне
земли, выходило во внутренний дворик, густо поросший
темными пыльными растениями. Пахло затхлостью и, почему–то, сырой
известкой, хотя комнату явно давно не белили. Возможно, в
дождь вода заливается через окно, — не изменял я своим
аналитическим наклонностям.
Хозяин посмотрел на меня, я посмотрел на Кору. «ОК», — безразлично
бросила она. Оставив вещи, мы до позднего вечера бродили по
Афинам, и оба были почему–то невеселы. Мне многое казалось
странным, даже неприятным — будничные занятия жителей,
какой–то диковатый, почти восточный дух, царящий в этой колыбели
западной цивилизации, мизерное количество туристов. Хотя
многие городские пейзажи удовлетворили бы эстета и
потребовательнее, чем я в то время.
Ночь набросилась на город внезапно, с жадностью хищного зверя, и нам
пришлось, наконец, вернуться в гостиницу. Все мои опасения
— опасения молодого интеллигентного самца — развеялись. Она
восприняла как должное, хотя и с некоторой долей
обреченности, и совместный номер, и общую постель, и все естественные
последствия этого для молодых, здоровых и красивых людей.
Я проснулся довольно поздно, от прикосновения чего–то холодного.
Открыв глаза, я обнаружил большую гроздь свежевымытого
винограда, лежавшую на красивой черной, расписанной под антик
керамической тарелке. И виноград, и тарелка были куплены Корой на
местном базаре, пока я досматривал утренние сны. Сама она, в
белых брюках и желтой, без рукавов, блузке, сидела стуле и,
едва заметно улыбаясь, внимательно глядела на меня. Что за
счастье! — блаженно подумал я, она не сердится на меня, и
этот виноград, и эти яркие одежды, и как хорошо, что я не
проснулся, пока ее не было. Как бы я испугался!
Второй афинский день прошел веселее, и потому, что развеялась
послеполетная одурь, и потому, что протекшей ночью мы самым
естественным и приятным образом признались друг другу в
лояльности. Теперь город не раздражал, а скорее забавлял меня. Густая
концентрация стилей и эпох, нахальные торговцы, городская
грязь, наконец обнаружившиеся пожилые туристы, которые никак
не могли сообразить, где же древности, и которые сами были не
менее классичны, чем древности, — все казалось мне милым и
своим. Мы провели в Афинах еще сутки, оставляя городские
музеи на обратный путь, и вылетели местным самолетом на остров,
на который оказался ближайший рейс, и на котором, как я
полагал, будет на что взглянуть.
У меня не было ни определенного маршрута, ни темы для будущей
работы, я боялся признаться себе в том, что исследователя из меня
не выйдет, и так же медлил с тем, чтобы считать себя поэтом,
хотя кое–что уже написал тогда. Я ждал от этой поездки
непосредственных, живых открытий — того, за чем отправляются
странствовать поэты, но не ученые мужи. Поэтому я не мог решить
для себя, нужно ли стремиться увидеть как можно больше, или
лучше засесть где–нибудь поосновательнее и погрузиться в
тихую созерцательность. Моя неожиданная спутница не
располагала меня к беготне, она была хороша в статике. Независимо друг
от друга мы решили, что лучше будет поселиться на острове
недели на две, чтобы осмотреть его, как следует, совершая
попутно морские поездки на материк и соседние острова.
Выбравшись из аэропорта в главный город острова, мы оставили вещи на
хранение и отправились исследовать окрестности. Городок нам
понравился, но он выходил к морю только портом, а нам
показалось странным жить на острове вдали от моря и, по совету
хозяина случайной таверны, мы направились в близлежащий
приморский поселок подыскивать квартиру.
Решив не пользоваться без особой на то нужды допотопным обшарпанным
автобусиком, курсировавшим вдоль побережья, мы прошли по
жаре километра четыре и уже начинали уставать. Большой
сероватый коробчатый отель уныло возвышался на прелестном, изысканно
вырезанном берегу.
— Я боюсь, это нам не подходит, — вздохнул я.
— Увы, — ответила Кора.
Мы искупались на чистеньком безлюдном пляже и вошли в живописный,
расположившийся между морем и зеленым холмом, поселочек. Было
безлюдно. И аборигены, и пришельцы прятались от жары,
квартирных объявлений не наблюдалось. Мы уже собирались повернуть
назад в город, когда услышали веселый молодой женский голос:
— Привет, у нас есть свободная комната! — Кто–то обращался к нам по–английски.
Голос доносился откуда–то сверху. Задрав головы, мы увидели, что на
подоконнике второго этажа очаровательно дряхлого
двухэтажного дома, который мы первоначально не заметили за окружавшей
его пышной растительностью, восседает весьма нордического
типа, красная от солнца, в более чем скупых одеждах девица и
дружелюбно смотрит на нас сверху вниз.
— Меня зовут Саскией. Нас здесь одиннадцать человек, дом большой,
хозяин берет недорого, — продолжала она зазывать нас. В
соседние окна на шум разговора уже стали высовываться сонные
лохматые головы этих самых одиннадцати, если не исключать саму
Саскию, человек, тоже большей частью нордического типа.
Хо–хо, а почему бы и нет, подумал я, воображая все веселые
последствия подобного выбора квартиры, и вопросительно взглянул на
Кору. Кора поморщилась.
— Пока у нас есть деньги, нам лучше поселиться отдельно, — сказала
она мне шепотом.
— А, вы жаждете комфорта и уединения, — рассмеялась Саския, — там, за углом...
Мы поблагодарили и, свернув в указанном направлении, и в самом деле
обнаружили более, чем лаконичную надпись «Room» на высокой,
живописной каменной ограде. Подойдя к калитке, мы долго
стучались, прежде, чем к нам вышел тихий сгорбленный старичок и
понимающе закивал вместо приветствия. Не решаясь без
посторонней помощи вступать в переговоры, он жестами попросил нас
подождать, а сам, перейдя улицу, нырнул в калитку напротив и
вернулся с невысокой женщиной, еще молодой, с некрасивым и
строгим лицом. Она хмуро оглядела нас, на ломаном французском
обьяснила условия и повела показывать комнату, неожиданно
оказавшуюся совершенно изолированным маленьким домиком,
флигельком, затерянным в буйном, влажном саду.
Флигель нам понравился, мы заплати ли за неделю вперед и, усевшись
под навесом веранды, принялись за легкое красное вино и
большую ржаную лепешку, которыми угостил нас хозяин.
— Станем, ли мы, последним беотийским развратникам подобно, пить
вино неразведенным? — грозно вопрошала Кора, разрезая хлеб
зверской формы хозяйским ножом.
— Эллада одичала, сестра, — ответствовал я ей в тон, — и этот бедный
варвар сочтет за оскорбление, если мы приведем его дар в
цивилизованное состояние.
Позже мы действительно попробовали разбавить водой другое, нами
купленное вино. Результат был невдохновляющим. Видимо, речь шла
о каком–то ином вине. Мир стал бескомпромисснее, жестче: или
вино, или вода.
Мы перевезли вещи во флигель и зажили образцовой жизнью
курортников–интеллектуалов, равномерно деля время между осмотром
древностей и морскими купаниями.
То наше островное существование давно слилось в памяти одним
длинным, разогретым солнцем день. И теперь оно представлялось
средоточием совершенного счастья, а тот, населенный суровыми, с
грубыми лицами, людьми остров — вожделенным Островом
Блаженных. Но я не ощущал себя счастливым тогда и даже теперь, по
прошествии лет, не склонен идеализировать прошлое. Я стоял на
пороге внутреннего перерождения и не мог чувствовать, умея
только наблюдать. Любая неожиданная архитектурная деталь,
красивый приморский пейзаж драгоценными, но чужеродными
иголками застревали в мозгу, вызывая неизбежную и довольно
болезненную кристаллизацию нового мироощущения. Я запоминал, почти
насильственно отпечатывая в памяти, изгибы олив, вызванные
дующими с моря ветрами; руины классического и македонского
периодов; изящные очертания первых византийских базилик и
грубоватые кирпичи поздних; утонченные формы минаретов, отчего–то
неизменно вызывавших у меня головную боль; красивые храмы
стиля, предвещающего романский, выстроенные в то счастливое,
быть может, время, когда церкви еще были Церковью.
Живописные монастыри лепились ласточкиными гнездами к высоким скалам,
куда было не взобраться без помощи монахов или альпинистов,
но рядом возвышались еще более недоступные скалы, на
которых даже монахам–альпинистам не удалось бы возвести монастырь,
и я видел в этом глубокий смысл.
Но теперь я чувствую, что не помню уже почти ничего, и близоруко
вглядываюсь в жасминовые лепестки воспоминаний, подвергая их и
себя опасности сдуть их неосторожным выдохом с пронизанного
острой голубизной островного пейзажа в ту бездну, из которой
нет возврата даже воспоминаниям–лепесткам.
Я любил тогда посплетничать и, любопытства ради, не открывая, что
речь пойдет о моем друге, спросил ее, что думает она о Гансе,
которого Кора должна была знать по семинарам из египтологии.
Кора неожиданно зло ответила, что Ганс — плохой
преподаватель и, судя по всему, в целом бездарный человек, за год
занятий она не слышала от него ничего умного. Она добавила также,
что университетскому начальству следовало бы быть
поразборчивее. Ганс, ведь, явно метит в доктора наук, оставаясь и по
внешности, и по манерам крестьянином. Я и сам частенько
подумывал о необходимости реформы высшей школы, но никак не в
применении к Гансу. Как раз Ганс–то и представлялся мне
идеальным студентом и лицом, достойным любой ученой степени.
— Он вышел из низов, — спорил я, — и как образован теперь!
— Лучше бы он оставался в своих низах, — невозмутило отрезала Кора.
— Он сформировавшийся ученый.
— Не думаю.
— Он поэт, — ввел я в игру последний козырь, не желая отдавать друга
на поругание.
— Нет, он не поэт, он не может быть поэтом.
Я не понимал причин подобной ожесточенности, почти ненависти и отнес
ее за счет какой–то экзотической сословной спеси. Ох, не
простушка, вздыхал я. Она не давала мне расслабиться, не
прощала ни одной необдуманной, нечетко произнесенной фразы, ни
одного вульгаризма, и я уже воображал, как она рассуждает с
каким–нибудь молодым человеком, которого она сочтет более
достойным своего общества, и который находился бы ко мне в том
же отношении, в котором я сам находился к Гансу, о том, что
подобных мне на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к
науке, ни к искусству.
Девочка слишком просвещена, думал я и все ждал, что она выудит из
дорожной сумки что–то, что позволило бы ей заняться чем–нибудь
продуктивным: альбом для эскизов, коробку с красками,
записную книжку, какое–нибудь рукоделье, наконец, но этого так и
не произошло. Несколько раз, правда, она щелкала маленьким
фотоаппаратиком, не утруждая себя перерисовыванием,
какие–нибудь чернофигурные, краснофигурные, барельефные, горельефные
и прочие жанровые сценки, говоря, что собирается стать
специалистом по истории костюма. Такая профессия показалась мне
пошлой и недостойной ее, но я смолчал.

Продолжение следует
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

