Ценность любви в свете философии сверхсознательного
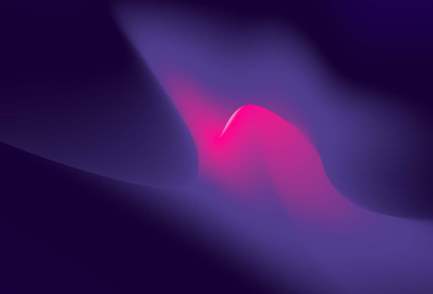
Прежде чем непосредственно обратиться к теме настоящего рассуждения, напомню, в чем состоит, так сказать, краеугольный камень моих метафизических воззрений: это важно потому, что в свете именно этих последних мною будет рассматриваться тема любви. Читатель, который не понаслышке знаком с моими предшествующими работами, уже знает, что, согласно моим понятиям, во множестве явлений мира представляется единая сущность, каковая сущность, будучи единой не в противоположность множеству этих явлений, а во множестве таковых, т.е. будучи в каждом из них одной и той же, есть не просто единая, а всеединая сущность, т.е. сущность, которая в одно и то же время есть одно и все, единое и многое. Однако же Кант показал своей критикой разума, что в метафизике аподиктические суждения, т.е. суждения, имеющие характер безусловной достоверности, возможны лишь постольку, поскольку они имеют априорный синтетический характер, тогда как это последнее возможно лишь постольку, поскольку суждения подтверждаются созерцанием; поскольку же возможное для нас созерцание есть результат воздействия предметов на органы наших чувств и поэтому дает нам явления, а не вещи сами по себе, постольку аподиктические суждения в метафизике невозможны. Следовательно, метафизика обречена на то, чтобы ее положения были только более или менее обоснованными предположениями, но ни в коем случае не догмами, и если философ, занимающийся метафизикой, забывает об этом, то место ему среди теологов, а вовсе не философов. (Это не оценочное суждение, а констатация факта: теолог, в отличие от философа, не имеет права на собственное мнение именно потому, что в своих суждениях он вынужден оперировать непререкаемыми, раз и навсегда установленными догмами, и если он все же позволяет себе высказывать собственное мнение, то лишь постольку, поскольку это последнее существующим догмам не противоречит, тогда как в противном случае ему уготована дурная слава еретика.)
Вот почему я не могу согласиться с Шопенгауэром, который полагал, что в целях доказательства единства сущности достаточно принять выводы трансцендентальной эстетики Канта. Логика Шопенгауэра, если коротко, заключалась в следующем: поскольку реальное множество возможно лишь в пространстве, как форме сосуществования (одно подле другого), и времени, как форме последовательности (одно после другого), тогда как пространство и время есть формы одних только явлений, постольку сущность, представляющаяся в явлениях, может быть лишь единой и тождественной. Подтасовка очевидна: логическая необходимость ошибочно принимается за реальную необходимость, тем более что в данном случае доказывается логическая даже не необходимость, а просто возможность именно такого, а не какого-либо другого положения вещей, ибо нельзя исключать (хотя и нельзя допускать), что, быть может, в мире вещей самих по себе есть такие формы бытия, которые, будучи для нас совершенно непостижимыми, все же делают возможными реальное множество. Таким образом, аргументация Шопенгауэра оказывается на поверку аргументацией ad ignorantiam, т.е. логической ошибкой: из того, что мы не знаем (и даже не можем знать) иных оснований реального множества, кроме пространства и времени, делается неправомерный вывод, что пространство и время являются единственно возможными основаниями реального множества. Правда, хотя бы только логическая возможность, что во множестве явлений представляется единая сущность, доказывается именно в свете кантовского учения о пространстве и времени, ибо, с эмпирической точки зрения, невозможность такого положения вещей, при котором та или другая вещь пребывает одновременно в остальных вещах, оставаясь при этом в каждой из них единой, т.е. нераздельной, вполне очевидна, и если бы опыт давал нам порядок не простых явлений, а вещей самих по себе, то допущение во множестве явлений единства сущности было бы не только произвольным, но и прямо абсурдным.
Куда более веским доводом в пользу единства сущности предстает такой факт, как единство мира. Впрочем, и здесь аргументация имеет проблематический характер, ибо, будучи уже не трансцендентальной, или дедуктивной, как в случае с аргументацией от идеальности пространства и времени, а эмпирической, или индуктивной, она дает не полную достоверность, а (в лучшем случае) очень высокую степень вероятности, тем более что в применении к трансцендентным предметам такое понятие, как «вероятность», начисто лишено смысла: вероятностный подход имеет смысл лишь в применении к таким предметам, которые могут быть даны в опыте. Следовательно, если мы хотим, чтобы эмпирическая аргументация была в данном случае максимально усилена и давала нам полную достоверность, необходимо дополнить ее аргументацией от невозможности противоположного, т.е. необходимо, чтобы аргументация приобрела, опять же, трансцендентальный, или дедуктивный, характер. Допустим противоположное, а именно, что множеству явлений соответствует множество сущностей. В таком случае реальное взаимодействие между явлениями мира, составляющее его единство, оказывается невозможным, хотя оно и дает о себе знать в опыте с очевидностью факта. Когда Лейбниц столкнулся с тем затруднением, что допущение им множества простых сущностей, или монад, находится в противоречии с единством мира, как эмпирически данным, ему пришлось выйти из этого затруднения с помощью гармонии между монадами, предустановленной абсолютной сущностью, но своей же монадологии в ущерб, ибо единство абсолютной сущности допускает множество лишь явлений, а не самих сущностей, в то время как множество абсолютных сущностей есть contradictio in adjecto. Если мною допускается, что множеству эмпирических индивидуумов соответствует единство абсолютного индивидуума, который в эмпирических индивидуумах проявляется, то здесь нет противоречия, однако же если мною допускается, что множеству эмпирических индивидуумов соответствует множество абсолютных индивидуумов, каждый из которых есть простая сущность, то противоречия уже не избежать, поскольку в таком случае ни о каком взаимодействии между эмпирическими индивидуумами не может быть и речи, хотя опыт и свидетельствует о таковом взаимодействии, как о реальном. Таким образом, нам остается принять одно из двух: или единство самой сущности, допускающее множество одних только явлений, или абсурд.
Правда, на это могут возразить, что не менее несомненным является такой факт, как война всех против всех (bellum omnia contra omnes), достигающая своей наивысшей степени в человеческом бытии, и если этот факт несомненен, то, спрашивается, как согласовать его с единством сущности? Недаром ведь Бердяев остроумно заметил по данному поводу, что в силу этого факта метафизика всеединства трещит по швам. Однако же это остроумие едва ли основательно, если принять в соображение, что в данном случае то ли намеренно, то ли ненароком логическое противоречие ошибочно смешивается с реальным противоречием (на этом смешении как раз и покоится так называемая гегелевская диалектика), и если в том, что множеству противоположных друг другу явлений соответствует единая сущность, нет логического противоречия, то реальное противоречие между единством сущности и множеством явлений именно в том и состоит, что между этими последними существует противоположность. Таким образом, единство сущности, доказанное выше на основании единства мира, нельзя, как и это последнее, оспорить на том основании, что единство мира состоит в противоположности между его явлениями. Подобно тому как множество противоположных друг другу мотивов не исключает единства субъекта, испытывающего на себе влияние этих мотивов, точно так же и множество противоположных друг другу явлений не исключает единства самой сущности, ибо в данном случае речь идет о противоположности между действиями одной и той же причины. Мысли сколь угодно могут приходить в столкновение друг с другом, однако же единство и тождество мыслящей сущности даже вследствие этого остается непоколебимым и неизменным, ведь противоположные друг другу мысли принадлежат мыслящей сущности в качестве ее состояний. То же самое касается и противоположных друг другу индивидуумов, которые, согласно моим понятиям, являются соизволенными мыслями сверхсознательного, как всеединой абсолютной сущности. Кто знаком с моими предшествующими работами, тот уже знает, что реальное значение мирового процесса усматривается мною в том, что представление и воля, которые в самом сверхсознательном образуют нераздельное единство, в мире явлений все более и более обособляются друг от друга, причем в человеческом бытии это обособление представления от воли достигает наивысшей степени благодаря тому, что уже в мире неразумных животных возникает сознательное представление, однако же представление и воля не перестают вследствие этого быть состояниями единого сверхсознательного существа. Что же касается противоречия между единством сверхсознательного и множеством индивидуумов, которое состоит в противоположности между этими последними, то именно здесь мною усматривается единственное веское основание для морального осуждения эгоизма, суть которого состоит в том, что каждый естественно, исконно склонен к тому, чтобы быть всем не в единстве со всем, а в противоположность всему. Поэтому мною и говорится, что подлинная ценность индивидуального человеческого бытия не позитивна, а негативна, т.е. состоит не в том, чтобы стать как можно более счастливым в смысле наслаждения бытием, а в том, чтобы тернистым путем очищения изначально злой воли придти к полноте самоотрицания, увенчанием которого станет прекращение бытия: очевидная бедственность человеческого бытия уравновешивает его исконную греховность, а потому бытие человека есть в первую очередь нечто недолжное и только вследствие этого нечто неудовлетворительное. Если христианство говорит, что бог воплотился в мире, чтобы разделить с ним его страдание, то я говорю, что бог воплотился как мир, т.е. стал миром, чтобы, претерпев в нашем лице страдание, искупить то заблуждение, в которое он ненароком впал, решив воплотиться в качестве мира.
Но существует ли в этом мире тенденция, которая противоположна тенденции к взаимному уничтожению существ в их неистовой борьбе друг с другом за место под солнцем? Лучи этого солнца просвечивают ли в непрерывном апокалипсисе бытия? Такие просветы, бесспорно, есть, и к их числу следует отнести в первую очередь любовь. Если бы за сверхсознательным мною признавалось целесообразное руководительство мировым процессом, я бы восторженно усмотрел его высочайшую мудрость в том, что в лице любви оно предусмотрело тенденцию, которая, будучи противоположной тенденции к взаимоуничтожению существ, уравновешивает ее и тем самым не дает обратиться этому миру до конца в сущий ад, где каждый в одном лице был бы дьяволом и мучимым. Поскольку же в сверхсознательном нет преднамеренности (ибо ему, как всеединому, нечего желать, кроме себя самого, не к чему стремиться, кроме как к себе самому, не говоря уже о том, что преднамеренность указывает на отвлеченную мысль, тогда как сверхсознательное мыслит само по себе не отвлеченными, а наглядными представлениями, т.е. не понятиями, а созерцаниями), и поэтому я не признаю за ним ни руководительства мировым процессом (для которого ему бы требовалось быть временно́й сущностью), ни премудрости, постольку в существовании такого явления, как любовь, равно как и в существовании мира вообще, следует усматривать простую данность, или, если угодно, дело слепого случая. Однако же любовь любви рознь, и если мы хотим понять, какова ценность любви в свете философии сверхсознательного, необходимо четко соблюдать различие между теми ее разновидностями, которые были известны уже эллинам, а именно:
a) половая любовь, или любовь-страсть (эрос);
b) дружеская любовь, или любовь-расположение (филия);
c) родственная, или семейная, любовь, или любовь-преданность (сторге);
d) жертвенная любовь, или любовь-снисхождение, любовь-милосердие, любовь-сострадание (агапэ).
Ценность каждой из этих разновидностей любви будет рассмотрена соответственно тому, в какой степени, большей или меньшей, эта любовь является индивидуализированной, т.е. сосредоточенной на конкретном лице, в связи с чем следует заранее определиться с такой закономерностью: чем менее индивидуализированной, или чем более обезличенной, является любовь, тем большей ценностью она располагает. Начнем, конечно, с половой любви.
Вообще, относительно половой любви справедливы нижеследующие строки из замечательного стихотворения Ницше «Одинокая любовь»:
Насколько преувеличено в мире значение половой любви, можно судить по тому, что, если рассматривать это значение в чисто эвдемонологическом отношении, легко увидеть, что значение это, скорее, негативно, а не позитивно, ибо половая любовь в целом заключает в себе куда больше недовольства, чем удовольствия. Пусть тот, чей умственный взор не затуманен более страстным пылом любовного чувства, решит для себя, действительно ли страдания, пережитые им на почве любви, стоили тех наслаждений, что́ ему эта любовь дала, и ответ будет очевиден. На чем же тогда покоилась наша уверенность в том, что именно нам повезет в любви? На надежде, одной лишь слепой надежде, которая соорудила воздушные замки в нашем воспаленном воображении. Даже если взять мизерный процент тех, кому удалось добиться пресловутого любовного счастья, которое для любящего, конечно же, не в последнюю очередь состоит в разделенности, взаимности его чувства, не укроется от нашего взора, сколь это счастье непродолжительно и поэтому ничтожно: розовые очки рано или поздно спадают с глаз и, разбиваясь вдребезги об камень обманутой надежды, болезненно врезаются осколками нам в глаза, дабы, отрезвив наш взор, показать, что предмет нашего ожидания незначителен, тогда как разочарование, напротив, велико́. Если любовная коррида и увенчивается браком, то любящим же в наказание за то, что они были достаточно слепы, чтобы заведомо упредить себя от того, что́ ждет их в дальнейшем: поэзия шумного любовного празднества быстро сменяется прозой будничной жизни, и супругам предстоят годы упорного труда, прежде чем они научатся, обуздывая порывы своего эгоизма, находить общий язык друг с другом и заодно понять, что искомое ими счастье заключается в том, чтобы в их семье было как можно больше мира, т.е. спокойствия. И то не факт, что из битвы даже за такое, чисто отрицательное счастье, как мир в семье, они выйдут победителями! Пусть и не бо́льшая, но при этом значительная часть семейного благополучия, насколько таковое вообще возможно, приходится на долю того, что́ от воли супругов никак не зависит, а именно на долю счастливого случая, каковым здесь предстает соответствие в типе темперамента и характере, и если супругам все же удается построить крепкий брак, то лишь ценою того, что на фоне все большего и большего угасания страсти они приходят к чисто дружеской любви, основанной если и не на общности интересов, то хотя бы на взаимодоверии и взаимопонимании. Спрашивается, а стоило ли все это хождения по мукам, которое тому предшествовало? Вопрос риторический. Прибавьте сюда значительно больший процент распавшихся и просто неудавшихся браков, еще больший процент тех пар, которые вынужденно или добровольно расстались прежде создания брака, а также неисчислимый процент тех, кто познал на собственном опыте боль неразделенной любви, которая во многих была настолько нестерпимой, что́ эти несчастные не нашли для себя никакого другого выхода, кроме как свести счеты с жизнью, – подведите всю эту трагическую статистику, и вы поймете, что половая любовь в целом начисто лишена позитивной ценности, ибо ее счастье есть не что иное, как пустой призрак.
Итак, если рассматривать значение половой любви в чисто эвдемонологическом отношении, следует признать, что половая любовь есть вовсе не божий, каковой ее обычно считают, а именно чертов дар. (Не будучи суеверным человеком, я не признаю за чертовщиной никакой объективной реальности, и поэтому мои слова нужно понимать не в прямом, а в переносном смысле.) Счастье половой любви реально лишь постольку, поскольку оно длится (вернее, лишь до тех пор, пока это счастье ощущается), тогда как само по себе это счастье призрачно именно потому, что счастья вечной любви не существует. Впрочем, тот, кому довелось узнать по своему опыту, что́ такое неразделенная любовь, знает также, что неразделенной любви сопутствует столь амбивалентное чувство, как сладкое страдание: неразделенная любовь есть страдание именно потому, что она – неразделенная, однако же страдание неразделенной любви есть сладкое страдание именно потому, что она – пусть и неразделенная, но все же любовь. Кто же в своей неразделенной любви безутешен, тот может вполне утешиться сознанием того, что абсолютный субъект страдания, которое сопутствует неразделенной любви, есть вовсе не эмпирически данный индивидуум, а всеединое сверхсознательное, и поэтому страдание любящего в действительности не разделяет его с любимым, а соединяет с ним, ибо ввиду единства сущности, одинаково проявляющейся и в любящем, и в любимом, страдание любящего суть его страдание настолько же, насколько оно есть страдание любимого. То, сколь мистичным это воззрение может показаться иному человеку, говорит за то, что сущность сама по себе, как всеединое, по определению выше противоположности единства и множества (и поэтому есть не просто единое, а сверхъединое), каковая противоположность, при всей ее объективности, имеет действительное значение лишь применительно к явлению сущности, тогда как применительно к самой сущности она имеет чисто субъективное и поэтому мнимое значение, или, что то же самое, не имеет никакого значения. Однако же в свете философии сверхсознательного будет односторонне и даже непоследовательно рассматривать значение половой любви в чисто эвдемонологическом отношении, поскольку в таком случае необходимо признать, что половая любовь имеет лишь физическое значение, тогда как нас интересует не столько феноменология, сколько метафизика половой любви. Что́ значение половой любви с эмпирической точки зрения является чисто отрицательным – в этом мы уже разобрались. Но каково значение половой любви с метафизической точки зрения – чисто отрицательное или все же положительное? Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения.
Сперва нужно определиться с тем, что́ такое половая любовь. Под половой любовью следует иметь в виду такую степень индивидуализации половой потребности, при которой объект этой потребности имеет в представлении ее субъекта особенное значение. Другими словами, когда речь идет о половой любви, необходимо учитывать, что любимый в глазах любящего является не просто значимым, а сверхзначимым, и поэтому не будет преувеличением сказать, что половая любовь есть своего рода помешательство, каковое по определению есть ненормальное и даже болезненное состояние. Конечно, мало кто согласится признать человека, воспылавшего любовью к другому человеку, душевнобольным, однако же болезненность такого состояния, как половая любовь, станет ясной, если смотреть на нее, как на зависимость, подобную наркотической: когда любящий опьянен счастьем единения с любимым, он испытывает эйфорию, но если любящий отделен от любимого мукой неразделенной любви (опять же, только как явление, а не как сущность), его мучение ничем, по сути, не отличается от мучения того, кто, страдая от наркотической зависимости, лишен возможности удовлетворить потребность в наркотике. На это, разумеется, могут возразить, что, де, состояние, мною сейчас описываемое, есть вовсе не действительная любовь, а влюбленность, однако же то, что возражающие таким образом понимают под действительной любовью, есть вовсе не половая, а дружеская любовь, которая и вправду не так уж и редко заменяет собою для пар любовь половую, и если эта последняя имеет свойство вновь и вновь вспыхивать (до тех пор, пока в человеке не исчерпываются физические силы, необходимые для того, чтобы вести половую жизнь), то лишь затем, чтобы в очередной раз угаснуть. Следовательно, когда речь идет о половой любви, нет и быть не может различия между такими состояниями, как любовь и влюбленность. Именно потому, что половая любовь есть не что иное, как предельно индивидуализированная половая потребность, ее можно и даже нужно рассматривать как зависимость, причем зависимость не столько физиологического, сколько психологического свойства. Для человека, как индивидуального существа, вполне естественно испытывать потребность в ком-либо другом, и половая любовь, при всем том, что она представляет собою болезненное состояние, не составляет в данном отношении исключения: если кто-либо мнит себя настолько самодостаточным, что, по его словам, он лишен потребности в том, чтобы быть любящим и, что самое главное, любимым, т.е. кому-то нужным, ему нельзя верить, ибо человек, так говорящий, неискренен если не с самим собой, то хотя бы с другими. Абсолютно самодостаточным (aseitas) может быть только бог, ибо бог, как абсолютный индивидуум, есть один и все индивидуумы одновременно, а потому бог лишен потребности в другом ровно постольку, поскольку для него исключена сама возможность другого. Человек же, как эмпирический индивидуум, есть один из всех возможных индивидуумов, для которого всегда открыта возможность другого, в котором он мог бы нуждаться, иметь потребность, и если человек может быть самодостаточен, то его самодостаточность, в отличие от самодостаточности бога, всегда будет лишь относительной, причем не объективной, а чисто субъективной, т.е. человек может быть самодостаточен не в действительности (уже хотя бы потому, что он есть не все, как бог, а лишь одно из всего), а только в своем представлении о себе самом. Поэтому человек, в отличие от бога, и может быть одиноким, хотя одиночество, бесспорно, само по себе не есть ни зло, ни благо, являясь тем или другим в строгой зависимости от того, как оно ощущается: если одиночество ощущается негативно, а именно как изоляция, оно есть несомненное зло, но если одиночество ощущается позитивно, а именно как уединение, оно есть несомненное благо, причем степень способности человека к наслаждению одиночеством детерминирована степенью его самодостаточности, которая для человека, опять же, может быть лишь относительной и чисто субъективной. Чем меньшую ценность в собственных глазах представляет собою человек, тем менее он способен к наслаждению одиночеством, причем к обществу других его будет подталкивать не столько потребность в них (объективно потребность в других имеет даже самый закоренелый одиночка), сколько неспособность выносить самого себя. Именно чувство самодостаточности есть то, что делает человека, пусть и только в его собственных глазах, но все же если и не равным богу, то хотя бы подобным ему, почему самодостаточные люди не лишены самодовольства (можно даже с полной уверенностью сказать, что самодовольство есть необходимый спутник чувства самодостаточности), тогда как еще Аристотель сказал, что счастье принадлежит довольным собой.
Но и самый, казалось бы, самодостаточный человек не застрахован от того, чтобы совершенно неожиданно для себя самого быть пораженным стрелой злого насмешника Купидона. Выше было сказано, что половая любовь есть зависимость не столько физиологического, сколько психологического свойства, но как быть с тем, что выше было также сказано, что половая любовь есть не что иное, как, пусть и предельно индивидуализированная, но все же половая потребность? Здесь нет противоречия, ибо половая любовь немыслима без половой потребности, тогда как половая потребность, напротив, вполне мыслима без половой любви. Половая потребность сама по себе есть безличное чувство, и для ее удовлетворения совершенно безразлично, за счет кого она должна быть удовлетворена: вполне достаточно, чтобы то или другое лицо, как объект половой потребности, отвечало субъективным критериям привлекательности для того, чтобы с ним можно было вступить в половой акт. Что же касается половой любви, то здесь, в отличие от половой потребности, мы имеем дело с половым интересом не в специфически узком, а в самом широком смысле этого слова, и поэтому половая потребность в свете половой любви есть вовсе не самостоятельное, а побочное явление: она имеет значение уже не сама по себе, не как таковая, а лишь постольку, поскольку существует моральная потребность в другом, каковая потребность есть не что иное, как эмоциональная зависимость от него, или, если выражаться менее обтекаемо, ментальное рабство у него, и это рабство может ощущаться как негативно, так и вполне позитивно.
Унизительно положение того, кто, питая к другому неразделенную любовь, вынужден оставить далеко позади себя последние остатки гордости, лишь бы только заполучить в свое распоряжение вожделенный объект любви, и если у него это получается, то счастью его, при всей его объективной призрачности, нет предела: тот, кто на собственном опыте познал блаженство физического обладания любимым человеком, знает, что соединение с ним в половом акте доставляет удовлетворение не только физического (как при совокуплении с нелюбимым человеком), но и морального порядка, а все потому, что в свете половой любви имеет значение не физическое обладание другим лицом как таковое, а физическое обладание именно этим, а не каким-либо другим лицом. Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что половая любовь есть не столько физическое, сколько духовное влечение к другому лицу, и поэтому в свете половой любви физическое влечение имеет значение не само по себе, а лишь постольку, поскольку существует духовное влечение. Если же принять в соображение, что, согласно философии сверхсознательного, различие между психическим и физическим есть, выражаясь языком Спинозы, различие не в самой субстанции, а исключительно в тех аспектах, с которых рассматривается одна и та же субстанция (почему, собственно, психическое и физическое различаются между собою лишь субъективно, т.е. для нас, тогда как объективно, т.е. сами по себе, они друг от друга не отличаются ничем), то становится ясным, что в половой любви физическое влечение к другому лицу есть тот способ, которым с внешней стороны проявляется духовное влечение к нему. (Чтобы сделать эту мысль более понятной, следует отметить, что эрекция у мужчины наступает при половом возбуждении, а не вследствие него, как это обычно думают, однако же между половым возбуждением и эрекцией, при всем их несомненном субъективном различии, существует полное соответствие именно потому, что половое возбуждение есть с внутренней стороны то, что с внешней стороны есть эрекция.) Половая потребность сама по себе ни моральна, ни аморальна (чуть ниже я еще коснусь вопроса о критерии моральности и аморальности, который только и может считаться объективно значимым), не говоря уже о том, что она вполне естественна (уже хотя бы потому, что функционально связана с такой целью природы, как сохранение и приумножение вида), но это не отменяет того, что сама по себе половая потребность есть довольно низменное чувство, в котором есть нечто унижающее достоинство человека как разумного животного. Что же касается половой любви, то она, напротив, есть, несомненно, высокое чувство, в свете которого половая потребность одухотворяется.
Впрочем, сколь бы высоким чувством ни была половая любовь, заблуждение думать, будто бы она есть противоположность своекорыстия: нет, половая любовь есть самое что ни на есть своекорыстное чувство, ибо, как уже было отмечено выше, она представляет собою не что иное, как половой интерес в широком смысле этого слова, и если бы это было не так, то в половой любви отсутствовало бы столь характерное именно для нее чувство, как ревность. Поэтому, вполне лояльно относясь к так называемой свободной любви, я не вижу в ней ни малейшего смысла, ведь она не есть любовь в собственном смысле этого слова. Если любящий заинтересован в счастье любимого, то вовсе не ради самого любимого, как это хотелось бы ему думать, чтобы тем самым возвыситься над собою в своих же собственных глазах, а лишь постольку, поскольку счастье любимого есть условие его же собственного счастья. Следовательно, жертвенность половой любви есть исключительно мнимая, а не истинная жертвенность, хотя ниже мы увидим, что даже жертвенная любовь, при всем ее видимом бескорыстии, отнюдь не лишена своекорыстия, как это обычно думают, ибо всякая заинтересованность есть именно эгоистическая заинтересованность, и если воля лишена интереса, то мотив, как сказал бы здесь Шопенгауэр, сменяется для нее квиетивом, однако же для индивидуальной воли состояние полного квиетива может быть равносильно лишь состоянию смерти. Итак, мы не будем несправедливыми, если скажем без ложной скромности, что половая любовь, если речь идет о разделенной любви, есть эгоизм на двоих.
Поскольку же половая любовь есть такой половой интерес, который предельно индивидуализирован, постольку можно и даже нужно с полной уверенностью сказать, что в половой любви имеет место выбор любимого любящим, с тою лишь разницей, что этот выбор непроизволен, т.е. безотчетен, бессознателен, тогда как невольным он кажется лишь постольку, поскольку решение принимается не сознательной, тождественной произволу, а бессознательной волей: интеллекту, которым обусловливается сознание, остается только принять это решение бессознательной воли как данность, почему, собственно, и создается впечатление, будто бы выбор любимого есть нечто такое, что осуществляется помимо воли любящего, хотя на самом деле этот выбор осуществляется лишь помимо его сознания. Читатель, не понаслышке знакомый с моими работами, уже знает, что мною признается не только сознательная, но и бессознательная психическая деятельность, и если первая связывается мною с деятельностью одной лишь нервной системы, то вторая связывается мною не только с нервной деятельностью, но и с деятельностью всего организма в целом. Даже более того, психическая деятельность в свете моего воззрения есть та же деятельность организма, просто рассматриваемая субъективно, ибо различие между душой и телом человека сводится мною к различию между психическими и физическими функциями человеческого организма, и между этими функциями существует полное соответствие именно потому, что они, по сути, являются одними и теми же функциями, лишь рассматриваемыми с различных точек зрения, а именно с точки зрения психологии (если речь идет о психических функциях) и с точки зрения физиологии (если речь идет о физических функциях). Так, например, у мозга нет каких-либо других функций, кроме психических, и если в ответ на это укажут, что мозговые функции есть функции именно физические, то я не стану оспаривать этого положения, но присовокуплю к нему положение о том, что, рассматриваемые субъективно, эти функции есть то же, что и психические функции, а именно функции интеллекта (который объективно, т.е. сам по себе, есть тот же мозг), в то время как физических функций, которые не соответствовали бы психическим функциям, у мозга попросту нет. Что же касается физических функций, которые выполняются, как правило, непроизвольно (например, таких, как дыхание, кровообращение и пищеварение), то, рассматриваемые субъективно, они есть самые что ни на есть психические функции, а именно функции бессознательной воли (которая объективно, т.е. сама по себе, есть то же, что и организм в целом). Поэтому биологическая смерть хотя и сводится к смерти мозга, вместе с которой необратимо прекращается всякий опыт, как внешний, так и внутренний, однако же окончательная смерть наступает именно в момент смерти всего организма в целом, поскольку из того, что в момент смерти мозга навсегда прекращается сознательная психическая деятельность (временно она прекращается, например, в состоянии глубокого сна), вовсе не следует, будто бы прекращается психическая деятельность вообще. Бессмертен один только бог (ибо понятие бессмертия необходимо связано с понятием вечности, которая есть свойство, принадлежащее именно богу), тогда как человек бессмертен не сам по себе (ибо сам по себе он есть только явление), а лишь постольку, поскольку в своей умопостигаемой сущности он составляет одно целое с богом, а через это составляет одно целое с другими вещами, к числу которых относятся другие люди.
Итак, в половой любви имеет место выбор любимого любящим, но поскольку этот выбор приходится на долю решения, принимаемого бессознательной волей, постольку кажется, будто бы этот выбор является не просто неосознанным, а невольным. Спрашивается, есть ли этот выбор свободный выбор? Этот вопрос заключает в себе тот пункт, который позволяет нам осуществить наконец переход от феноменологии половой любви к ее метафизике. С чисто эмпирической точки зрения, бесспорно, свободным является лишь такой выбор, который произволен, т.е. осознан (хотя и этот выбор свободен лишь относительно, а не абсолютно), тогда как в данном случае мы имеем дело с непроизвольным, т.е. неосознанным, выбором, который для сознательного представления есть нечто данное – роковое и поэтому невольное. Оттого и бессмысленно спрашивать, почему мы любим именно тех, а не других, хотя внешнему наблюдателю может вполне справедливо представляться, что объект нашего сердечного влечения недостоин нас, а если нас с ним разделяет (опять же, лишь феноменально) несчастная, безответная любовь, то внешний наблюдатель может не менее справедливо указать нам на то, что объект нашего сердечного влечения недостоин наших мук: когда речь заходит о любви, в том числе и половой, справедливость вместе с ее критериями отходит на задний план. Но как обстоит дело с метафизической точки зрения? Известно, что опыт создания метафизики половой любви принадлежал, например, Шопенгауэру (см. «Мир как воля и представление», т. II, гл. XLIV), однако же этот опыт не может считаться удовлетворительным хотя бы потому, что Шопенгауэр сперва взял за основу своей метафизики понятие слепой воли, а затем, словно в шутку над самим собой, приписал этой слепой воле преднамеренность, с которой она будто бы внушает существам, что цели, преследуемые ими в половой любви, есть индивидуальные цели, тогда как на самом деле это – цели, преследуемые «гением рода», в распоряжении которого только что означенное внушение есть не более чем военная хитрость. Действительно, тот факт, что в половой любви выбор любимого осуществляется непроизвольно, т.е. помимо сознательной воли, испокон веков подводил людей к мысли о том, что любовь, даже самая несчастная в своей неразделенности, есть дело судьбы, хотя с эмпирической точки зрения эта же любовь, несомненно, есть дело слепого случая, т.е. нечто такое, чего могло бы попросту не быть. В опыте нет места судьбе, ибо необходимым, с эмпирической точки зрения, что-либо является не само по себе, а лишь постольку, поскольку оно есть следствие из предшествующего ему основания, тогда как по отношению ко всему остальному оно есть нечто случайное именно потому, что не связано с ним отношением следствия к своему основанию. Таким образом, если приписывать миру чисто физическое значение и тем самым отказывать ему в каком-либо метафизическом значении, нужно признать, что в мире безраздельно властвует слепой случай.
Из всех космологических антиномий (так называемых антиномий чистого разума) наиболее значительной лично мне представляется не первая и даже не третья, а именно четвертая антиномия, и если критическое разрешение Кантом третьей антиномии сводится к указанию на то, что один и тот же поступок можно без противоречия рассматривать как трансцендентно свободный и эмпирически необходимый одновременно, то критическое разрешение четвертой антиномии сводится к указанию на то, что можно без противоречия рассматривать происходящее в мире и как дело трансцендентной необходимости, и как дело слепого случая. Этот трансцендентный фатализм, как называл его Шопенгауэр (см. «Parerga und Paralipomena», т. I, «О видимой преднамеренности в судьбе отдельного лица»), теоретически недоказуем и поэтому составляет предмет непроверяемой веры, однако же эта вера сопутствовала человечеству с древнейших времен, принимая самые различные обличия. В теизме этот трансцендентный фатализм персонифицируется, т.е. понимается в свете провиденциализма, что́, несомненно, отвечает интеллектуальному уровню среднего человека, имеющего вполне естественную склонность к антропоморфизму в понимании божества, который если и допустим, то лишь в переносном, а не в прямом смысле, или, выражаясь языком Канта, только как символический, а не догматический антропоморфизм. Обычное понятие о всеведении бога таково, что бог заранее предусматривает все возможные последствия своего творческого акта, прежде чем решиться на него, и только потом, сообразно со своим предвидением, осуществляет свое решение. Но это понятие ошибочно, ибо: во-первых, бог, как вечное существо, не знает обусловленного временем различия между «прежде» и «потом»; во-вторых, предусмотреть что-либо можно лишь в отвлеченном представлении, тогда как для бога не существует различия между отвлеченным и наглядным представлениями именно потому, что мышление бога есть умственное созерцание; и, наконец, в-третьих, для бога решиться на что-либо значит то же, что и осуществить свое решение. Итак, действительный смысл понятия о всеведении бога таков, что все, что должно было произойти, с метафизической точки зрения, т.е. с точки зрения бога, уже произошло: то, что происходит во времени, есть лишь последовательное раскрытие того, что произошло в вечности. Вот почему, как я уже говорил, мы уже живем вечно, и поэтому нам нет смысла ждать, когда смерть перенесет нас в другой мир, ибо другой мир есть вовсе не другое место, каким он представляется обычному сознанию, а просто другое созерцание того же самого мира, и будь мы способны к тому, чтобы созерцать мир, так сказать, не телесными, а духовными очами, каждый из нас увидел бы самого себя всем во всем и каждым в каждом. В этом смысле и нужно понимать созерцание вещей в боге, о котором говорили мистики. Эмпирическая реальность, при всей ее несомненной объективности, т.е. независимости от представления и воли кого-либо из единичных субъектов, лишь относительна, а не абсолютна, или, как сказал бы Кант, есть реальность простого явления, а не вещи самой по себе, и «тот свет» называется так именно потому, что мы неспособны созерцать его при жизни.
В строгой зависимости от того, смотреть ли на жизнь как на состояние бодрствования или же как на состояние сна, на смерть можно смотреть либо как на погружение в бесчувственный сон, либо как на пробуждение, и если принять в соображение, что сама по себе наша эмпирическая жизнь есть только представление о чисто умопостигаемой жизни, которая, будучи независимой от условий времени, не начинается с физическим зачатием и не кончается с физической смертью (ибо зачатие и смерть реальны как одни лишь явления), можно с полной уверенностью вывести следующую формулу: то, что с эмпирической точки зрения есть погружение в бесчувственный сон смерти, с метафизической точки зрения есть пробуждение от сна жизни. Таким образом, вечная жизнь, убежденность в существовании которой имеет место в глубине души у каждого из нас (как сказал великий Спиноза, «мы внутренне сознаем и чувствуем, что мы вечны»), есть вовсе не жизнь в продолжение бесконечного времени, какой она представляется обычному сознанию, а жизнь вне времени, относительно которой мы не можем иметь никакого другого понятия, кроме чисто отрицательного. Поэтому и понятие смерти для нас может быть лишь отрицательным понятием о прекращении жизни: мы очень хорошо знаем на собственном опыте, что́ в момент смерти нами утрачивается, но при этом не можем знать на собственном опыте, что́ благодаря смерти нами приобретается. Смерть в этом смысле есть вечная тайна.
(Окончание следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

