Ценность любви в свете философии сверхсознательного (Окончание)
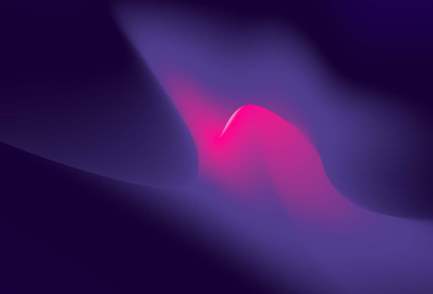
Теизм не может разрешить противоречия между свободой воли и предопределением именно потому, что он не хочет ничего знать о тождестве с богом того, что́ составляет в человеке саму сущность (или, как говорится в священных Упанишадах, о тождестве атмана с брахманом), но если отвергнуть этот предрассудок, то становится ясным следующее, а именно: неопределенность существует лишь субъективно, т.е. для нас, тогда как объективно, т.е. само по себе, все, что происходит в течение нашей жизни, не просто определено, а предопределено, однако же акт, благодаря которому существует предопределение, есть акт не чуждой, а нашей же свободной воли. Свобода либо абсолютна, либо ее в действительности нет, однако же абсолютная свобода есть принадлежность одного только бога, что́ прекрасно сознавал великий Спиноза, когда давал понятию бога следующее определение в связи с определением понятия свободы: «Свободной называется такая вещь, которая существует лишь в силу необходимости собственной природы и сама собой определяется к действию по известному и определенному образу». Быть абсолютно свободным значит быть в боге, тогда как быть в боге значит быть всем во всем и каждым в каждом. Следовательно, человек может считаться своим же собственным хотением (или, что то же самое, актом своей же собственной воли) не сам по себе (ибо, опять же, сам по себе он есть только явление, этим хотением не просто определенное, а предопределенное), а лишь постольку, поскольку в своей умопостигаемой сущности он есть одно целое с богом, а через это – одно целое со всем сущим, и если можно сказать, что каждый человек есть причина самого себя (causa sui), то ровно настолько, насколько он есть причина других вещей, ибо в самом боге, как всеедином, ни один из актов его воли не отделен от других ее актов. Эта мысль, не подтверждаемая никаким доступным нам созерцанием и поэтому совершенно непостижимая в своем предмете, неизбежно приводит нас к мысли о совершенстве мира в целом, каковая мысль составляет основу метафизического оптимизма, учащего о существующем мире, как возможно лучшем. Впрочем, представление Лейбница о выборе богом существующего мира, как возможно лучшего, из множества возможных миров я нахожу совершенно несостоятельным, ибо в таком случае нужно думать, будто бы бог сперва имел мысль о многих возможных мирах и только затем осуществил мысль о возможно лучшем мире, тогда как на самом деле мир и есть не что иное, как соизволенная мысль бога, не говоря уже о том, что бог, как вечное существо, не знает различия между «сперва» и «затем», а потому для бога помыслить мир значит то же, что и осуществить мысль о нем, поскольку бог мыслит не отвлеченными, как человек, а самыми что ни на есть наглядными представлениями.
Следовательно, бог мог создать только этот, а не какой-либо другой мир, но создал его не вынужденно, а вполне добровольно, и поскольку он создал мир, постольку мир, созданный богом, есть возможно лучший. Иное дело, что, создав мир, бог тем самым допустил ошибку, пусть и непреднамеренно (или, если выражаться антропоморфически, бог создал мир в порыве безумия, поскольку воля, актом которой осуществилась мысль бога о мире, сама по себе безумна), а потому творческий акт, благодаря которому возник мир, есть не просто акт, которому лучше было бы не быть, но акт, которого не должно было быть: мир в целом совершенен не в том смысле, что он безупречен, а именно в том смысле, что он есть наилучший из возможных, тогда как возможно лучшее есть то же, что и возможно худшее, в том случае, если отсутствуют какие-либо другие возможности, либо возможности являются равноценными. Бесконечно лучше, чтобы бог не создавал никакого мира, ибо небытие мира есть значительно меньшее зло, или, что то же самое, значительно большее благо, по сравнению с его бытием, однако же создание богом мира если и может быть названо грехом, то следует иметь в виду, что грех этот состоит не в преднамеренном злодеянии, а в непреднамеренно допущенной ошибке: решившись создать мир, бог (опять же, если выражаться антропоморфически) сделал это вслепую (поэтому в понятии о мире, как ошибке бога, нет противоречия тому, что бог по своему понятию всесовершенен), ибо слепа сама по себе воля, актом которой осуществлена мысль бога о мире. Когда я говорю о том, что мир создан, нужно понимать, что выражение это имеет тот смысл, что мир создан предвечно, а не во времени и уж тем более не вместе со временем, ибо объективно время не имеет ни начала, ни конца именно потому, что всякие начало и конец необходимо обусловлены самим временем. Отсюда становится ясным, что́ значит понятие о мире, как непрерывном творческом акте бога (creatio continuum): вечность мирового процесса есть не что иное, как временно́е раскрытие вечности творения, и то, что с нашей, эмпирической точки зрения есть вечный процесс, с метафизической точки зрения, т.е. с точки зрения бога, есть вечный результат. В свете вышесказанного становится также ясным, что совершенству мира в целом, как творческого акта бога, никоим образом не противоречит тот факт, что эмпирическая действительность неудовлетворительна, ибо мир в целом есть мир в боге (или, как сказал бы Кант, умопостигаемый мир), тогда как эмпирическая действительность есть только явление того, предвечно существующего в боге мира (в этом смысле и нужно понимать выражение «тот свет»). Или, как мною уже говорилось, нет противоречия между эмпирическим пессимизмом и метафизическим оптимизмом: равно как неудовлетворительность эмпирического мира не может считаться действительным возражением против совершенства мира в целом, точно так же и это последнее не отменяет того, что небытие мира бесконечно предпочтительнее его бытия. Вопрос, не хуже ли бытие мира его небытия, есть вопрос, допускающий возможность его эмпирического решения, именно потому, что вопрос об удовлетворительности или неудовлетворительности мира, очевидно, имеет действительное значение лишь применительно к миру для нас, а не к миру самому по себе, тогда как суждение о совершенстве мира в целом выносится уже не с эмпирической, а с метафизической точки зрения, которая для нас, людей, доступна не в созерцании, как для бога, а исключительно в мышлении, причем отвлеченном.
Если же в свете мысли о единстве всего сущего в боге, как всеедином, мы приходим к мысли о гармонии мира в целом (которая, опять же, не исключает дисгармонии эмпирической действительности), то становится ясным, что от нас уже не может укрыться метафизическое значение половой любви. Допущение, что в опыте нам дается порядок вещей самих по себе, неизбежно приводит к тому, чтобы половой любви придавалось чисто физическое значение, но в таком случае необходимо признать, что новая жизнь, как произведение эгоизма на двоих, каковым является не только половая любовь, но и всякий половой акт, обязана вопиющей несправедливости, ведь если человеку, с эмпирической точки зрения, жизнь дается помимо его воли (хотя и не против его воли, ибо субъект воли здесь еще отсутствует), то произведение новой жизни в столь неудовлетворительном мире должно рассматриваться как неизвинительное преступление. Напротив, если исходить из того, что в опыте нам дается порядок одних только явлений, тогда как в мире вещей самих по себе все находится в непостижимом единстве со всем, а каждое – с каждым, то уже не стоит удивляться тому, что у такого-то человека именно такие, а не какие-либо другие родители, в то время как у этих последних именно такие, а не какие-либо другие дети, поскольку различие между человеком и его родителями лишь относительно, а не абсолютно, т.е. касается не самой сущности, которая в человеке и его родителях едина, а только ее явления. Воля отца, который в неистовстве полового чувства извергает семя в лоно матери, метафизически едина с волей дитяти, зачатого в результате полового акта. Правда, ограничивать метафизическое значение половой любви одним лишь чадородием, как это делал Шопенгауэр, неправомерно, ибо, во-первых, чадородие может быть результатом полового акта, произошедшего между людьми, не испытывающими друг к другу в двустороннем или одностороннем порядке ничего, кроме чисто физического влечения (тогда как половая любовь есть в первую очередь духовное и только потом уже физическое влечение), а во-вторых, рассуждения Шопенгауэра о необходимой гармоничности потомства, являющегося плодом любви, есть точно такие же спекуляции, как и его рассуждения насчет теории наследственности (см. «Мир как воля и представление», т. II, гл. XLIII). Церковное таинство брака, если вынести за скобки его чисто обрядовую составляющую, наполнено глубочайшим смыслом, и выражение «браки заключаются на небесах», если понимать его не в прямом, а в переносном смысле, есть сущая правда. Миф об андрогине – муже-женственном первочеловеке, грехопадению которого обязан своим возникновением мир, – проливает свет на истинное метафизическое значение половой любви, состоящее в следующем, а именно: половая любовь есть выражение стремления единой сущности в лице ее явлений к тому, чтобы на уровне пола восстановить то первоначальное единство всего сущего, которое, будучи предвечно существующим в самой сущности, предстает распавшимся в эмпирической действительности. Поскольку же сущность сама по себе есть всеединое и поэтому не имеет ничего вне себя, постольку она не может стремиться ни к чему другому, кроме как к себе самой, а потому в половой любви нужно видеть не что иное, как явление этого стремления единой сущности к себе самой. Есть ли метафизическое значение половой любви, только что установленное, положительное или отрицательное – вопрос риторический, ведь половая любовь, как мы уже выяснили, есть предельно индивидуализированное чувство, тогда как сверхсознательное, как всеединое, есть не просто индивидуальное, а сверхиндивидуальное существо, или, если угодно, индивидуальное и универсальное существо одновременно. Следовательно, половая любовь есть только первоначальная, низшая ступень воли сверхсознательного к себе самому, как всеединому, на феноменальном уровне.
Метафизическое значение половой любви не может быть усвоено в полной мере, если не затронуть хотя бы вскользь такого щекотливого вопроса, как вопрос о гомосексуальности. Весьма примечательно, что столь глубокий ум, как Шопенгауэр, обратившись в дополнение к своей «Метафизике половой любви» к рассмотрению данного вопроса, испытал когнитивный диссонанс оттого, что гомосексуальность, при всей ее противоестественности (чуть ниже это положение станет предметом более детального обсуждения), не только считалась вполне обычным явлением в дохристианской Европе, но и по сию пору считается таковым во всем неиудаизированном мире, т.е. мире, где так называемые авраамические религии либо распространены в наименьшей степени, либо не распространены вовсе. С одной стороны, Шопенгауэр был однозначно прав, когда определял гомосексуальность как «извращение инстинкта», но с другой стороны, он проявил столь нехарактерную для него узость в мышлении, когда в унисон с иудеохристианством заклеймил гомосексуальность как порок. Гомосексуальность, как и сексуальность вообще, сама по себе не есть ни добродетель, ни порок, и если мы говорим о таком критерии моральности и аморальности поведения, в том числе и сексуального, который является объективно значимым, то следует признать, что таковым может считаться лишь критерий эвдемонологический, а именно отношение к чужому благу и горю, причем этот критерий объективно значим вовсе не потому, что он будто бы для всех обязателен (ибо понятие обязательства имеет действительный смысл в праве, а не в морали), а потому, что с ним согласится всякое разумное существо (достаточно вспомнить так называемое золотое правило нравственности). Что же касается остальных критериев моральности и аморальности поведения, в том числе и религиозных, то они субъективны в том смысле, что не могут быть обоснованы с одинаковой значимостью для всех и поэтому сводятся к беспочвенному морализированию. Как справедливо отметил тот же Шопенгауэр: «Проповедовать мораль легко – трудно обосновать мораль». Будь мы достаточны честны, мы бы признали без каких-либо оговорок, что всякая этика, как религиозная, так и светская, может быть обоснована с объективной значимостью лишь в форме разумного эгоизма, который в условиях индивидуации есть необходимое зло, т.е., при всей его нежелательности (с точки зрения философии сверхсознательного), разумный эгоизм допустим в целях самосохранения индивидуальных существ, каковым целям моральные и правовые нормы как раз и отвечают. Эгоизм, с точки зрения философии сверхсознательного, нежелателен именно потому, что индивидуальное существование в свете этой философии обязано акту, которого не должно было быть, и если не разделять эту точку зрения, то исчезает всякое основание для морального осуждения эгоизма, недопустимого только в том случае, если не идет речи о разумном эгоизме. Точно так же и эвдемонизм, который с эгоизмом идет рука об руку, сам по себе есть вовсе не преступление (каковым его считают отдельные тупые головы), а простое заблуждение, причем заблуждение вполне естественное для человека и в этом смысле ему прирожденное: лишь тернистый жизненный путь может привести человека к тому, чтобы убедить его не только в теории, но и на практике в ложности эвдемонизма, тем более что так называемое чувство жизни, будучи притупленным у молодых людей, не особо ценящих жизнь, как свою, так и чужую, обостряется именно в зрелом возрасте, когда физические и душевные силы человека достигают своего наивысшего расцвета, подобно тому как свеча наиболее ярко вспыхивает именно перед тем, как погаснуть. «Сера теория, мой друг, но вечно зелено древо жизни» (Гете, «Фауст»): что хорошо в теории, не всегда годно на практике. Оттого и мой пессимизм имеет лично для меня чисто теоретическое значение, и если бы я придавал ему также практическое значение, отсюда с логической необходимостью следовал бы тот вывод, что, если жить не стоит, то стоит как можно скорее перестать жить, в то время как я решительно утверждаю, что жить стоит, хотя жизнь и дана вовсе не для того, чтобы наслаждаться ею, а для того, чтобы перестрадать ее. Другими словами, чтобы в практическом отношении быть последовательным пессимистом, нужно быть мертвым пессимистом. Как сказал бы по этому поводу Макиавелли: «Сначала жить, потом философствовать». Следовательно, пессимизм у меня нейтрализуется тем, что эвдемонизму, из которого пессимизм исходит в своих предпосылках, я противопоставляю мизерабилизм, суть которого состоит в утверждении, что, если бы у жизни была объективно поставленная цель, она могла бы заключаться в одном только страдании.
При всем том, что криминализация гомосексуальности недопустима как в правовом, так и в моральном отношении (даже более того, ее должно рассматривать как постыдное явление), следует помнить, что гомосексуальность есть сексуальная девиация, или, если использовать устаревшую терминологию, извращение полового чувства. И суть дела вовсе не в том, что автор этих строк лично гетеросексуален: в данном случае имеет место не оценочное суждение со знаком «минус» (уже хотя бы потому, что гомосексуальность сама по себе не может обоснованно рассматриваться как преступление ни в моральном, ни уж тем более в правовом отношении), а простая констатация того факта, что сексуальной нормой, с биологической точки зрения, может считаться лишь гетеросексуальность.
Асексуальность, например, при всей ее очевидной ненормальности, вовсе не есть извращение полового чувства именно потому, что это последнее в данном случае попросту отсутствует, не говоря уже о том, что асексуальные люди должны быть признаны счастливейшими в том отношении, что им неведомы те «скорби по плоти», на которые справедливо указывал такой гений религиозной мысли, как ап. Павел. Что же касается гомосексуальности, то она есть извращение полового чувства именно потому, что, как уже было отмечено выше, половая потребность функционально связана с такой целью природы, как сохранение и приумножение вида, тогда как гомосексуальность, очевидно, находится в непримиримом противоречии с этой целью, поскольку здесь возможен лишь такой способ удовлетворения половой потребности, который не только не способствует, но и не может способствовать произведению новой жизни. Конечно, на это могут возразить в том духе, что половая потребность хотя и связана функционально с инстинктом размножения, однако же связана необязательно, ибо в половом акте такой мотив, как наслаждение, предстает вполне самостоятельным явлением. Но это заблуждение, ибо наслаждение, побуждающее мужчину и женщину к соединению друг с другом в половом акте, есть, с точки зрения природы, именно побочное, а не самостоятельное явление, и если бы наслаждение не служило мотивом к совокуплению, то лишь сила инстинкта побуждала бы людей к произведению на свет себе подобных, не говоря уже о том, что, если бы не половое наслаждение и сила инстинкта, только лишенный сострадательности человек, будучи разумным, мог бы решиться на то, чтобы по трезвому, холодному рассуждению предать еще одну душу муке бытия. Таким образом, если выражаться антропоморфически, можно сказать, что половое наслаждение есть та уловка, посредством которой природа вовлекает людей в достижение целей, глубоко чуждых их действительным личным интересам, и если в удовлетворении половой потребности люди оказываются настолько изощренными, что могут действовать в обход инстинкта, то причина этого лежит в том, что известный уровень интеллекта, возвышающий человека над остальным животным миром, делает его способным к тому, чтобы достигать личных целей не только в обход целей природы, но и в противоречии с ними. Что же касается довода, будто бы гомосексуальность естественна в такой же степени, как и гетеросексуальность, ввиду того, что она встречается также среди неразумных животных и поэтому не есть специфически человеческое явление, то этот довод попросту смешон, ибо среди неразумных животных гомосексуальность именно встречается, т.е. речь идет о единичных случаях, и даже если эти случаи множественны, они не отменяют того, что мы имеем дело с исключениями, а не с правилом.
Впрочем, из того, что гомосексуальность противоестественна, отнюдь не следует, что сама по себе она есть не просто ненормальное (с биологической точки зрения), а болезненное явление. Существует много таких способов удовлетворения половой потребности, которые, очевидно, противоестественны (таких, как онанизм, плюрализм, орализм, анализм etc.), однако же мало какой из этих способов может сам по себе, как таковой, обоснованно считаться патологическим, не говоря уже о том, чтобы считаться порочным, а то и вовсе преступным. Широко расхожее мнение, будто бы гомосексуальность (которая есть не способ удовлетворения половой потребности, а форма ее направленности) сама по себе есть психопатология, связанная с патологией центральной нервной системы (патология центральной нервной системы объективно есть то же, что субъективно есть психопатология), не выдерживает решительно никакой критики, ибо в природе не существует ни чисто гомосексуальных, ни чисто гетеросексуальных особей: человек гомосексуален или гетеросексуален лишь относительно, а не абсолютно, т.е. не полностью, а лишь в значительно большей степени, почему, собственно, можно с полной уверенностью сказать, что от природы человек бисексуален. Положение о естественной, прирожденной бисексуальности человека впервые было озвучено в монументальной работе Отто Вайнингера «Пол и характер», полной не только женоненавистнических предрассудков (между прочим, извинительных для юноши, незаслуженно обделенного женским вниманием), но и гениальных интуиций, тогда как в последующем это положение стало фактом, подтвержденным генетикой, в свете которой также ясно, что, если речь идет об истинной гомосексуальности, эта последняя есть не приобретенное, как мнимая гомосексуальность, а самое что ни на есть прирожденное свойство. (Чтобы избежать недоразумений известного рода, следует делать различие между приобретенной и осознанной гомосексуальностью, которая, если она истинна, является прирожденной.) В этом смысле истинная гомосексуальность так же естественна, как и гетеросексуальность, ибо она есть просто необычное (и только в этом смысле ненормальное) сексуальное предпочтение, которое, в качестве такового, составляет индивидуальную особенность того или другого человека. (Поэтому в применении к той же гомосексуальности термин «извращение» является устаревшим, ибо он по определению заключает в себе негативную коннотацию, тогда как вполне очевидно, что, если нормальное само по себе не является должным, то ненормальное само по себе не является недолжным: природа, относительно которой в данном случае идет речь о норме и девиации, не ведает различия между должным и недолжным, а потому она сама по себе ни моральна, ни аморальна.) Итак, различие между людьми в их бисексуальности есть различие в степени, которым у каждого из них и определяется сексуальная ориентация – гомосексуальная, гетеросексуальная или же бисексуальная. Если же принять к сведению известные различия между женской и мужской сексуальностью, не будет преувеличением сказать, что женская бисексуальность есть вполне нормальное явление, хотя таковым, бесспорно, она является не сама по себе, а лишь по сравнению с мужской бисексуальностью (равно как и бисексуальность человека вообще нормальна лишь постольку, поскольку в той или другой степени она прирождена каждому человеку в отдельности и только в этом смысле естественна), ибо гомосексуальность, как сам факт сексуального интереса (в широком смысле этого слова) к лицам своего пола, а не только как преобладающая сексуальная ориентация, противоестественна вне зависимости от того, идет ли речь о женской (лесбиянство) или же мужской (педерастия) гомосексуальности. (Вообще, до сравнительно недавнего времени гомосексуальностью считалась лишь педерастия, тогда как лесбиянство ставилось наряду с гомосексуальностью, не говоря уже о том, что на лесбиянство, в отличие от педерастии, уголовное преследование, как правило, не распространялось: таково печальное наследие мужского сексизма, который по определению будет снисходителен к лесбиянству, ибо, пусть и неосознанно, гетеросексуальный или бисексуальный мужчина будет находить женскую гомосексуальность сексуально привлекательным явлением.) Поскольку нас интересует не столько физическое, сколько метафизическое значение половой любви, постольку естественная бисексуальность человека есть факт, требующий не только физического, но и метафизического объяснения, и это последнее в свете философии сверхсознательного заключается в том, что, рассматриваемый не как явление, а как сущность, человек есть андрогинное, т.е. целостное на уровне пола, муже-женственное существо. Отсюда становится ясным, какова в свете философии сверхсознательного метафизика гомосексуальности: она состоит в том, что гомосексуальность есть пусть и искаженное (в нейтральном смысле этого слова), но все же выражение стремления всеединого сверхсознательного к себе самому на таком феноменальном уровне, как уровень пола. Можно сказать и так, что то, что в гетеросексуальности есть стремление к андрогинности, в гомосексуальности есть стремление к гермафродитству.
Лично для меня такой феномен, как гомосексуальность, есть предмет чисто теоретического, а не практического интереса, и поэтому вышеизложенные соображения ни в коем случае не должны интерпретироваться как апология гомосексуальности: решительно возражая против того, чтобы криминализировать (пусть и косвенно, а именно посредством криминализации так называемой гомосексуальной пропаганды) и даже лишь патологизировать гомосексуальность, я при этом не менее решительно утверждаю, что, если гомосексуальность не может рассматриваться как сексуальная норма с биологической точки зрения, признание ее сексуальной нормой с точки зрения социальной хотя и не может считаться недопустимым, однако же не может считаться желательным. Если эту позицию сочтут оппортунистической, то объяснение этому кроется в том, что лично мое отношение к феномену гомосексуальности не есть ни однозначно позитивное, ни однозначно негативное, а просто лояльное. Примечательно, что в греко-римской древности мужская гомосексуальность была тесно связана с эфебофилией, которая сама по себе, в отличие от гомосексуальности, есть, с биологической точки зрения, вполне нормальное явление, хотя во многих странах мира эфебофилия по-прежнему криминализирована, полностью или частично, ибо в этих странах так называемый возраст сексуального согласия не соответствует возрасту половой зрелости, который, при всех различиях как индивидуального, так и полового характера, в среднем равняется 14-ти годам. Тот факт, что половозрелый мальчик нередко становился в глазах философа предметом сексуального интереса, объясняется тем, что философ испытывал к половозрелому мальчику сексуальный интерес в широком, а не узком смысле этого слова, т.е. его влечение было не столько физическим, сколько духовным. Поэтому объяснение такого, несомненно, странного феномена, как гомосексуальная эфебофилия античных философов, одной только похотью явно свидетельствует об узости в мышлении, извинительной для человека ума среднего и ниже среднего уровня, но при этом непростительной для интеллектуала. Что же касается широко расхожего мнения, будто бы гомосексуальность есть социальная патология, т.е. социально опасное явление, то лично я отношу его к разряду гомофобных предрассудков, ибо если так называемая гомосексуальная пропаганда и может считаться опасной для общества, то лишь в том смысле, что она способна известным образом сказаться на демографических показателях, но даже если фантастически (sic!) допустить, что «пропаганда гомосексуальности» приведет к прекращению рождаемости, то, согласно моим воззрениям, это явление нужно лишь приветствовать, ибо в свете моего пессимизма, с которым идет рука об руку мой антинатализм, человечеству лучше как можно скорее исчезнуть (добровольно, разумеется, а именно посредством всеобщего отказа людей от размножения), хоть я и отдаю себе довольно трезво отчет в том, что это мое пожелание есть не более чем нигилистическая утопия; если же не менее фантастически допустить, что «пропаганда гомосексуальности» приведет хотя бы к значительному сокращению рождаемости, то в свете такой проблемы, как глобальное перенаселение, которая становится все более и более актуальной едва ли не с каждым днем, это явление также нужно лишь приветствовать. Итак, «пропаганда гомосексуальности» может обоснованно считаться недопустимой (а значит и подлежащей криминализации) лишь в том случае, если она носит радикальный и, соответственно, агрессивный характер (даже более того, лишь в этом случае она может обоснованно расцениваться как собственно пропаганда), но ведь с точно таким же успехом недопустимой должна считаться и пропаганда гомофобии, которая является агрессивной по определению. Другими словами, пропаганда гомосексуальности (в собственном смысле этого слова, а именно навязывание гомосексуальной модели сексуального поведения) недопустима лишь постольку, поскольку недопустимо вообще навязывание какой бы то ни было точки зрения. Если утверждается, что гомосексуальность есть сексуальная норма как с биологической точки зрения, так и с точки зрения социальной, то с этим положением не только можно, но и нужно спорить (именно спорить, а не ограничивать свободу мысли под вывеской борьбы с гомосексуальной пропагандой), но если утверждается, что гомосексуальная модель сексуального поведения будто бы должна заменить собой гетеросексуальную, то здесь уместен не спор, а только запрет. Кстати говоря, не будет лишним отметить, что в среднем у гомофобов как уровень интеллекта, так и уровень культуры оставляют желать лучшего: уже хотя бы поэтому гомофобия есть постыдное явление, ибо многие выдающиеся личности (всех и не перечесть) были гомосексуальны или бисексуальны, тогда как многие гетеросексуалы если и могут быть признаны выдающимися, то лишь в своей посредственности. Непредубежденный же читатель в любом случае поймет, что сказанное мною по вопросу о гомосексуальности отнюдь не равносильно ее пропаганде, ибо гомосексуальность в свете философии сверхсознательного хотя и не порицается, однако же не одобряется (и уж тем более не превозносится), а просто объясняется.
Теперь мы переходим к рассмотрению значения дружеской любви, и если рассматривать это значение в эвдемонологическом отношении, легко увидеть, что сравнительно со значением половой любви оно является положительным. В самом деле, счастье дружеской любви есть вполне реальное счастье, но, рассматриваемое в целом, и оно призрачно уже хотя бы потому, что редко какой человек может похвастать тем, что имеет в своем распоряжении истинного друга, тогда как мнимых друзей у него может быть сколько угодно – здесь все зависит от степени его общительности, которая у разных людей может быть либо значительно большей, либо значительно меньшей, но при этом ни у одного из них не может быть нулевой. Когда речь заходит о дружбе, люди зачастую склонны путать ее с простым приятельством, которое, разумеется, встречается куда чаще, нежели истинная дружба, хотя и реже, нежели простое знакомство. Если же принимать к сведению различие между дружбой и приятельством, становится ясным, почему истинная дружба, как и романтическая любовь, есть нечто такое, что достается даром, а не добывается посредством личных заслуг. Другими словами, истинная дружба есть не что иное, как подарок судьбы.
При решении вопроса, какие люди могут быть связаны друг с другом отношениями дружеской любви, необходимо учитывать не только индивидуальные, но и, как ни странно, половые различия, ведь истинная мужская дружба в среднем есть нечто значительно более реальное, нежели дружба женская, ибо такие создания, как женщины, более всего склонны к искренности в отношениях именно тогда, когда таковыми они связаны с мужчинами, равно как и мужчина более всего естествен именно тогда, когда ему доводится быть в женском, а не в мужском обществе. Мужское общество, как правило, отличается довольно низким уровнем культуры, и если мужчина лично высококультурен, то необходимость пребывания в мужском обществе принуждает его к тому, чтобы не столько быть, сколько казаться, т.е. быть не самим собой, а во мнении других. Напротив, предоставленный женскому обществу, мужчина чувствует себя вполне свободно, и те ограничения, которые связывают его в мужском обществе, в женском обществе утрачивают силу и, как следствие, отпадают. Вот почему мнение, будто бы невозможна бескорыстная (в смысле отсутствия сексуального интереса друг к другу) гетеросексуальная дружба, т.е. дружба между женщиной и мужчиной, я нахожу довольно примитивным сексистским предрассудком, хотя зачастую действительное положение вещей и вправду таково, что в гетеросексуальной дружбе один любит (в половом смысле), а другой позволяет себя любить. Там, где есть страдание неразделенной половой любви, реального счастья дружеской любви (по крайней мере, со стороны того, кто романтически влюблен) быть не может, хотя нередки случаи, когда взаимная дружеская любовь перерастает во взаимную половую любовь, и это обоим на благо, ведь половая любовь обречена на то, чтобы рано или поздно угаснуть, в то время как счастье дружеской любви есть то, что служит залогом крепкого брачного союза: счастье половой любви может с бо́льшим или меньшим успехом связывать друг с другом супругов до тех пор, пока они молоды и даже зрелы, но если в пожилом и старческом возрасте их не связывает друг с другом счастье дружеской любви, то сила привычки – единственная пружина, на которой их брак может продержаться до последнего. Итак, даже здесь положительное значение дружеской любви сказывается в большей степени по сравнению с положительным значением любви половой, которая, опять же, сама по себе лишена этого значения начисто. Что же касается мужской дружбы, то она, как правило, более реальна по сравнению с женской дружбой именно потому, что, если мужчины в обществе друг друга менее естественны, то женщины в обществе друг друга менее искренны, и настоящую мужскую дружбу можно, пожалуй, разрушить лишь в том случае, если женщина, вернее, общий сексуальный интерес к ней становится яблоком раздора между двумя мужчинами, дотоле связанными друг с другом отношениями дружеской любви.
Если в половой любви мы любим слепо и поэтому незаслуженно, то в дружеской любви, напротив, мы любим в других то, что любим или хотя бы только хотели иметь в себе самих. В этом смысле дружеская любовь куда более избирательна, нежели любовь половая, и жертвенность дружеской любви более реальна, нежели жертвенность любви половой, ибо если в половой любви мы жертвенны «за полную чашку жалости в Сталинградской битве озверевшей похоти» (Егор Летов), то в дружеской любви мы жертвенны именно потому, что в лице своего друга имеем то, что называется родством душ. Конечно, и жертвенность дружеской любви сама по себе является мнимой, ибо мы жертвенны по отношению к своему другу лишь постольку, поскольку находим в нем свое «другое Я», а именно усматриваем в нем ту родственную душу, которая дорога нам потому, что она нам родственна, т.е. потому, что именно этот, а не какой-либо другой человек близок нам духовно. Поэтому дружба от простого приятельства отличается именно общностью интересов, и если эта последняя в дружбе отсутствует (например, в том случае, если друзьями являются люди разных интеллектуальных уровней или люди со значительной разницей в возрасте), то вполне достаточно взаимодоверия и взаимопонимания (которые для приятельства, разумеется, необязательны), ведь если в дружбе есть общность интересов, но при этом отсутствуют взаимодоверие и взаимопонимание, то эта дружба не в состоянии поручиться за собственную прочность. Вообще, следует иметь в виду, что общность интересов может быть лишь относительной, равно как и сходство во взглядах не может быть полным, а потому необходимым условием дружбы является именно теплое отношение людей друг к другу, по отношению к которому общность интересов предстает вовсе не самостоятельным, а самым что ни на есть побочным явлением.
Впрочем, с метафизической точки зрения дружеская любовь имеет столь же мало положительного значения, как и любовь половая, ибо дружеский интерес к человеку является столь же индивидуализированным, как и половой, в то время как выше мы условились, что бо́льшее или меньшее значение та или другая разновидность любви имеет в строгой зависимости от степени ее индивидуализации, ведь сверхсознательное, как всеединое, есть одно и все существа одновременно, тогда как в дружеской любви, как и в любви половой, мы выбираем одного из всех возможных существ. Отсюда становится понятным то умонастроение, которым проникнуты нижеследующие строки из упомянутого выше стихотворения Ницше:
Даже чувство дружбы как-то сиротливо –
Я любить желаю всех, иль никого;
Одинокий колос, колос, а не нива –
Дружба недостойна сердца моего.
Я всегда чуждаюсь страстного прилива –
Чувство к одному я прогоняю прочь –
Одинокий колос, колос, а не нива –
Дружба, сладострастье есть не день, а ночь.
Мне противны звуки одного мотива,
Полюбивши друга, я забуду всех –
Одинокий колос, колос, а не нива...
Дружба над любовью есть глубокий смех.
Иное дело – родственная, или семейная, любовь, которая потому и представляет собою значительно менее индивидуализированное чувство, что здесь человек предстает не столько как индивидуальное, сколько как родовое существо. Половая любовь, с метафизической точки зрения, имеет положительное значение лишь постольку, поскольку она есть условие возможности родственной любви, метафизическое объяснение которой в свете философии сверхсознательного лежит на поверхности: в родственной любви усматривается единство сущности на таком феноменальном уровне, как уровень рода. Наша связь с нашими родителями куда более интимна, чем нам кажется, и если с эмпирической точки зрения подтверждением этому служит факт наследственности психофизических свойств, составляющих нашу индивидуальность, то с метафизической точки зрения подтверждением этому служит такое соображение. Когда говорится, что родители – это наша судьба, необходимо иметь в виду, что эта судьба обязана акту не чуждой, а нашей собственной воли, и если кто-либо укажет на противоречие в том, чтобы, с одной стороны, признавать наследственность психофизических свойств, составляющих человеческую индивидуальность, а с другой стороны, эту самую индивидуальность признавать актом свободной воли самого же человека, то, как мною уже говорилось в другом месте, разрешение этого противоречия лежит в той плоскости, что противоположность между человеком и его родителями есть противоположность между одними только явлениями, тогда как в самой сущности человек и его родители составляют нераздельное единство, подтверждением чего, с эмпирической точки зрения, наследственность индивидуальных свойств как раз и выступает. Поэтому Шопенгауэр был не так уж и неправ, когда в своей «Метафизике половой любви» сказал, что в глазах влюбленных отсвечивает их будущее потомство. Иное дело, что половая любовь сама по себе имеет независимое от родственной любви значение, но, как такое, оно будет уже чисто отрицательным.
Родственная любовь (как любовь родителей к своим детям, так и любовь детей к своим родителям), бесспорно, слепа, ведь она инстинктивна (тогда как половая любовь инстинктивна не сама по себе, а лишь постольку, поскольку связана с инстинктом размножения). Однако же слепота родственной любви есть то условие, посредством которого для обычного человека становится возможным предать забвению не только в теории, но и на практике свое ничтожное индивидуальное Я, решительно утверждаемое как в половой, так и в дружеской любви. В чисто эвдемонологическом отношении значение родственной любви предстает не менее ничтожным, ибо тот, кто познал на собственном опыте счастье родительства, знает не понаслышке, что это счастье является таковым лишь постольку, поскольку оно есть также страдание, и если бы люди были достаточно честны не только перед другими, но и перед самими собой, они бы признали безо всяких обиняков, что в родительской любви недовольство берет верх над удовольствием. При этом сыновняя или дочерняя любовь в данном отношении предстает не более благодарным жребием, что, впрочем, ни одному из нас не мешает до последнего любить своих родителей именно потому, что наша любовь к ним так же слепа, как и их любовь к нам. Поэтому, если бы родственная любовь имела чисто физическое значение, следовало бы признать, что благоразумно как можно дольше воздерживаться от того, чтобы возлагать на себя бремя родительства, а то и вовсе не возлагать его на себя никогда. Но поскольку родственная любовь, как и любовь вообще, имеет также метафизическое значение, постольку в свете вышесказанного понятно, что метафизически положительное значение родственной любви возмещает собою ее эмпирически отрицательное значение.
Правда, абсолютно положительного значения родственная любовь не имеет все равно, ибо жертвенность родственной любви лишь условна, обусловлена тем, что здесь инстинктивно, безотчетно усматривается единство сущности исключительно на родовом уровне, т.е. в глазах ребенка предпочтителен именно его, а не какой-либо другой родитель, а в глазах родителя предпочтителен именно его, а не какой-либо другой ребенок. Дружеская любовь имеет, с метафизической точки зрения, сравнительно с половой любовью более положительное значение потому, что дружеский интерес является более духовным, тогда как в половой любви заинтересованность в другом лице, будучи, несомненно, духовной, является в значительно большей степени физической, нежели в любви дружеской. Родственная же любовь стоит на порядок выше как половой, так и дружеской потому, что здесь утверждается воля человека как именно родового, а не индивидуального существа, но это не делает ее совсем обезличенной, почему, собственно, и она не есть любовь в наивысшем смысле этого слова, т.е. ее жертвенность, будучи, несомненно, истинной, предстает, опять же, условной.
Вообще, что касается инстинктивности родительской любви, следует отметить, что, если инстинкт материнства есть действительное явление, которым облик женщины испокон веков облагораживался, то инстинкт отцовства есть, скорее, надуманное, чем действительное явление, и женщинам в данном отношении следует отдать должное. Здесь сказывается различие в женской и мужской сексуальности, ибо если, с биологической точки зрения, функциональное назначение мужчины состоит в том, чтобы оплодотворить как можно большее количество женщин (чем, собственно, и объясняется естественность мужской полигамности, точнее, полиаморности), то функциональное назначение женщины (опять же, с биологической точки зрения) состоит в том, чтобы в продолжение определенного промежутка времени сперва выносить, а затем родить на свет ребенка, зачатого именно от этого, а не какого-либо другого мужчины. Этим как раз и объясняется естественность женской моноаморности, равно как и бо́льшая склонность женщины по сравнению с мужчиной к супружеской верности, тогда как естественная склонность мужчины к супружеской неверности объясняется (хотя и не извиняется) его прирожденной, естественной полиаморностью. Мужчина вполне способен любить (в половом смысле этого слова) двух и нескольких женщин одновременно, хотя и не в одинаковой степени, ибо, будучи страстно влюбленным в одну женщину, он неизбежно будет менее пылок к другой, тогда как женщина, напротив, способна любить (опять же, в половом смысле) на определенный момент времени только этого мужчину и никакого другого больше. Женская полиаморность, разумеется, может встречаться, но если мужская полиаморность вполне нормальна (с биологической точки зрения), то женская, напротив, ненормальна (опять же, с биологической точки зрения), чем и объясняется тот факт, что нормальный мужчина по сравнению с нормальной женщиной гиперсексуален, т.е. женщине в среднем половая потребность свойственна в значительно меньшей степени, нежели мужчине, и если женщина гиперсексуальна, т.е. является нимфоманкой, то здесь налицо девиантное явление, поскольку женщина в таком случае оказывается значительно менее способной, а то и вовсе неспособной к тому, чтобы исполнить свое естественное назначение – стать матерью и, что самое главное, быть ею. Поэтому Вайнингер был не так уж несправедлив, когда сказал, что женщина может быть только либо матерью, либо проституткой. Недаром ведь Шопенгауэр в своей «Метафизике половой любви» указал на то, что мужчине свойственно после того, как он соединился в половом акте с женщиной, которую дотоле упорно добивался, резко охладеть к ней, тогда как женщина, напротив, утверждается в любви к мужчине еще больше именно тогда, когда физически соединяется с ним: хотя половая любовь сама по себе и есть не столько физическое, сколько духовное влечение к другому лицу, однако же если в глазах средней женщины половая любовь имеет в большей степени, нежели в глазах среднего мужчины, значение именно духовного влечения, то в глазах среднего мужчины эта же самая любовь имеет в большей степени, нежели в глазах средней женщины, значение именно физического влечения. Поэтому женщине, чтобы изменить, важно полюбить, чего уже не скажешь о мужчине.
Именно спецификой мужской сексуальности определяется тот факт, что отцовство в глазах среднего мужчины является значимым вовсе не само по себе, как для женщины – материнство, а лишь постольку, поскольку в деторождении имеет место продолжение рода. Отсюда и вполне нормальное для мужчины желание стать отцом именно мальчика, а не девочки, ведь мальчик есть потенциальный продолжатель своего, тогда как девочка, напротив, – потенциальная продолжательница чужого рода.
В заключение мы рассмотрим значение жертвенной любви, которая только и может быть признана любовью в наивысшем смысле этого слова. Очевидно, что рассматривать ее значение в эвдемонологическом отношении бессмысленно, ведь жертвенная любовь неотделима от такого чувства, как сострадание, которое есть не что иное, как сопереживание, сочувствие чужому горю. Когда речь заходит о чужом благе и горе, существует всего четыре возможных мотива человеческого поведения, а именно:
a) злорадство, как положительная заинтересованность в чужом горе;
b) сорадование, как положительная заинтересованность в чужом благе;
c) сострадание, как отрицательная заинтересованность в чужом горе;
d) зависть, как отрицательная заинтересованность в чужом благе.
Из всех этих возможных мотивов действительными являются лишь злорадство, сострадание и зависть, тогда как сорадование, напротив, имеет значение мнимого, а не действительного мотива. Вне зависимости от того, сознает ли это человек или нет, его сорадование другому возможно только как притворное, а не искреннее сорадование, и объяснение этого заключается в том, что индивидуальная воля, как таковая, по своей природе эгоистична, а потому может быть действительно заинтересована в чужом благе не ради него самого, а лишь постольку, поскольку с чужим благом сопряжено ее собственное. Когда я счастлив, меня переполняет стремление поделиться своей радостью со всем миром, но если я несчастен, то сразу же дает знать о себе злая воля, сущность которой замечательно передана Достоевским устами его героя из «Записок из подполья»: «Хоть всему миру провалиться, лишь бы мне чайку попить!» Вот почему злорадство, при всей его несомненной патологичности, есть вполне реальное наслаждение, и тот факт, что человек действительно способен искренне радоваться чужому горю, лучше всего говорит за то, что человеческая воля хотя и не тождественна дьявольской, однако же подобна ей. Но человеческая воля, при всем том, что она есть изначально злая, а не добрая воля, все же не есть дьявольская воля (ибо человек есть одушевленное тело, а не чистый дух, имеющий лишь видимость тела, как того бы хотелось спиритуалистам, подобным достопочтенному епископу Беркли), а потому злорадство для человека не просто ненормально, а болезненно. Что же касается зависти, то, в отличие от злорадства, она вполне естественна для человека, ибо человеческая воля, не будучи дьявольской, все же эгоистична по своей природе и поэтому изначально зла. Эгоизм плох, конечно же, не сам по себе, а лишь постольку, поскольку он есть не что иное, как естественная, прирожденная индивидууму склонность к тому, чтобы преследовать собственные интересы в противоположность интересам других, и только поэтому он есть «изначально злое в человеческой природе» (Кант). Насколько же могущественно влияние зависти на поведение человека, можно судить по тому, что, осознанно или неосознанно действуя на человеческую волю, этот мотив сильнее всего побуждает ее к тому, чтобы добиться упразднения чужого блага только потому, что зачастую для нас благо другого, как бельмо на глазу. Вот почему неблагоразумно лишний раз делиться своей радостью даже с друзьями, не говоря уже о приятелях и просто знакомых, ибо человек, которого мы считаем своим другом, может, сам того не сознавая (или, точнее, не желая отдавать себе в этом отчет, ибо, как ни странно, более всего мы склонны лгать именно самим себе), воспользоваться удобным случаем для того, чтобы лишить нас этой радости. Казалось бы, есть противоречие в том, чтобы мотив действовал на волю, не будучи при этом осознанным, но противоречия здесь на самом деле нет, если принять в соображение, что не так уж и редко мы склонны действовать необдуманно, тем более что мы не хотим тот или другой мотив допускать в поле нашего мозгового сознания именно потому, что мотивам, для того чтобы приходить в столкновение друг с другом, совсем необязательно быть осознанными, и мы поступаем обдуманно лишь тогда, когда мотив сознается нами более или менее отчетливо. Зависть, будучи неудовлетворенной, есть несомненное страдание, тогда как удовлетворение зависти дает наслаждение отнюдь не само по себе, а лишь тогда, когда к зависти оказывается примешанным такой мотив, как злорадство.
Но, спрашивается, если человеческая воля по своей природе эгоистична, а сострадание, несомненно, есть альтруистический мотив поведения, как быть с тем, что сострадание все же возможно для человека в качестве действительного мотива? Это недоумение будет преследовать нас лишь до тех пор, пока мы не признаем, что сострадание не исключает эгоизма, ибо, будучи альтруистическим мотивом, оно является таковым лишь относительно, а не абсолютно. Другими словами, такой мотив, как сострадание, альтруистичен не сам по себе, а лишь постольку, поскольку даже в сострадании есть эгоизм, пусть и неосознанный. Вот почему и основанная на сострадании жертвенная любовь такова лишь условно: для того чтобы жертвенная любовь была таковой безусловно, необходимо, чтобы она была немотивированной, следовательно, лишенной всякой заинтересованности, но поскольку в ней таковая заинтересованность все же есть, постольку следует признать, что даже жертвенная любовь не лишена своекорыстия, хотя по видимости она есть самоотверженность в чистом виде.
Чтобы понять это, казалось бы, парадоксальное положение, необходимо принять в соображение, что альтруизм, как таковой, относителен, а не абсолютен, и поэтому в действительности он есть не что иное, как альтер-эгоизм. В свете философии сверхсознательного метафизическое объяснение феномена сострадания является точно таким же, как и в философии Шопенгауэра: реальность чужого Я, при всей ее объективности, эмпирична (относительна), а не трансцендентна (абсолютна), или, выражаясь кантовским языком, есть реальность одного только явления, а не вещи самой по себе, и поэтому в сострадании имеет место, пусть и неосознанное, безотчетное, но все же усмотрение единства сущности как в моем собственном, так и в чужом Я. Но если чужое Я объективно-реально лишь в эмпирическом смысле, тогда как в трансцендентном смысле его реальность исключительно субъективна, отсюда необходимо следует, что в трансцендентном смысле только мое собственное Я есть объективная реальность. При всей схожести этого воззрения с метафизическим эгоизмом, более известным как солипсизм, оно не тождественно ему именно потому, что в этом воззрении трансцендентная реальность чужого Я отрицается лишь постольку, поскольку оно есть чужое Я, т.е. не-Я, и если в эмпирическом смысле чужое Я действительно есть не-Я, причем объективно, т.е. независимо от моего индивидуального, мозгового сознания, то в трансцендентном смысле чужое Я есть то же, что и мое собственное Я. (Чтобы не быть неверно понятым, отмечу вдобавок, что каждый из нас может сказать относительно себя, что в трансцендентном смысле объективно существует только его собственное Я: таков метафизический парадокс, связанный со всеединством сверхсознательного, как абсолютной сущности, и разрешение этого парадокса лежит в той плоскости, что противоположность единства и множества, будучи объективно значимой в пределах мира явлений, за его пределами лишена всякого значения.)
Если чужое Я есть лишь относительное, а не абсолютное не-Я, то отсюда становится ясным, что мое собственное Я хотя и не есть абсолютное Я, т.е. бог, в эмпирическом смысле, однако же в трансцендентном смысле мое собственное Я есть то же, что и абсолютное Я. У Канта есть такие слова: «Бог – не существо вне меня, а лишь моя мысль». Я же говорю: «Бог – не существо вне меня, а мое абсолютное Я». Вот почему философия сверхсознательного, не будучи примитивным теизмом, не есть также примитивный атеизм: будучи, несомненно, антитеистической, она есть не отрицательный антитеизм, который довольствуется «пустующими небесами», а положительный антитеизм, который выводит нас, выражаясь языком Юлиуса Эволы, по ту сторону теизма и атеизма. Другими словами, философия сверхсознательного есть не просто теизм, а сверхтеизм. Если столь угодно именовать философию сверхсознательного пантеистической, я вполне принимаю это определение, с той существенной оговоркой, что пантеизм философии сверхсознательного есть вовсе не натуралистический пантеизм, который, будучи космотеизмом, действительно есть тот «вежливый атеизм», о котором говорил Шопенгауэр, а мистический пантеизм, который, будучи акосмизмом, есть панентеизм («все в боге»), или, лучше сказать, теопантизм («бог есть все»). Положение теологов о вездесущности бога (кстати говоря, вполне принимаемое философией сверхсознательного) с логической необходимостью приводит к спинозизму, который, между прочим, есть вовсе не натуралистический, как его обычно интерпретируют, а самый что ни на есть мистический пантеизм. Однако же спинозизм не в состоянии разрешить противоречия, естественно возникающего в его недрах, а именно: если бог, как абсолютное, есть все, и поэтому вне бога ничего, по сути, нет, как быть с тем, что мир, который по своему понятию не есть бог, не просто существует, а существует действительно и притом объективно? Это противоречие разрешимо только в свете трансцендентальной, или кантовской, философии: реальность мира, при всей ее объективности, лишь относительна, в то время как абсолютная реальность свойственна одному только богу. Это и подразумевается философией возвышенных Упанишад, в которых говорится, что мир есть майя. Я бы сказал так, что мир есть сновидение бога, но сновидение не в прямом, а в переносном смысле этого слова, ибо сновидение в прямом смысле есть сновидение, имеющее субъектом одного из нас, а мир, как сон бога о самом себе, есть сновидение, общее для всех нас и поэтому не субъективное, а самое что ни на есть объективное, т.е. такое, которое для каждого из нас в отдельности есть уже не сновидение, а самое что ни на есть бодрствование. На языке трансцендентальной философии это положение может быть переведено в следующую формулу: то, что объективно, т.е. само по себе, есть трансцендентная идеальность, субъективно, т.е. для нас, есть эмпирическая реальность. Отсюда становится ясным, почему смерть, как прекращение сна жизни, не есть прекращение самого спящего, ведь бог есть спящий лишь в нас, как своих явлениях, тогда как сам по себе он есть не спящий, а самый что ни на есть бодрствующий.
Вышеизложенных соображений должно быть вполне достаточно, чтобы понять, что в сострадании, при всей его альтруистичности, имеет место эгоизм. Поскольку мною испытывается сострадание, постольку я отрицательно заинтересован в чужом горе, т.е. заинтересован в его прекращении. Но поскольку я заинтересован, т.е. на мою волю действует мотив, постольку я заинтересован в прекращении чужого горя именно потому, что это горе испытывается мною не как чужое, а как мое собственное, т.е. заинтересован в прекращении собственного горя, возникшего по поводу горя чужого. Разумеется, тот факт, что альтруизм лишь относителен, а не абсолютен, не отменяет того факта, что сострадание есть не мнимо, как сорадование, а действительно альтруистический мотив, ибо если в сорадовании имеет место положительный интерес, а именно заинтересованность в собственном наслаждении по поводу чужого, то в сострадании имеет место чисто отрицательный интерес, а именно заинтересованность в простом прекращении собственного страдания по поводу чужого. Уже хотя бы поэтому жертвенная любовь, с метафизической точки зрения, имеет хотя и не абсолютно, но все же положительное значение. Если же принять в соображение, что жертвенная любовь безразлична в том смысле, что относится к другому безо всякой заинтересованности в нем самом, т.е. для жертвенной любви не имеет значения, кто является ее объектом, от нашего умственного взора уже не укроется понимание того, что жертвенная любовь есть любовь в наивысшем смысле именно потому, что, пусть и в относительном смысле, она бескорыстна, тогда как остальные разновидности любви не лишены своекорыстия в том смысле, что для каждой из них, пусть и по-своему, имеет значение, кто предстает ее объектом, и поэтому они в целом стоят ниже жертвенной любви.
Но и жертвенная любовь не есть последнее: в свете философии сверхсознательного более чем ясен смысл изречения Майстера Экхарта о том, что выше любви отрешенность, ибо даже самая высокая любовь, как мы уже выяснили, не лишена интереса, тогда как отрешенность есть отсутствие интереса. Здесь впору задаться вопросом, который напрашивается сам собой: а мыслимо ли такое состояние для человека? Абсолютная отрешенность, как отсутствие всякого интереса, есть абсолютная святость, но в этом смысле абсолютно свят только бог, тогда как человек (именно потому что он, как человек, не есть бог) может быть святым лишь в относительном, а не абсолютном смысле. Конечно, в моральном отношении святой человек превосходит и бесконечно превосходит обычного человека, однако же это превосходство не может быть абсолютным именно потому, что святость человека может быть лишь относительной. Следовательно, человеку, чтобы быть абсолютно святым, необходимо перестать быть человеком, т.е. необходимо быть мертвым, и если справедливо, что отрешенность выше любви, не менее справедливо, что смерть выше жизни. В этом смысле и нужно понимать слова Майстера Экхарта: «Там, где кончается человек, начинается бог».
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

