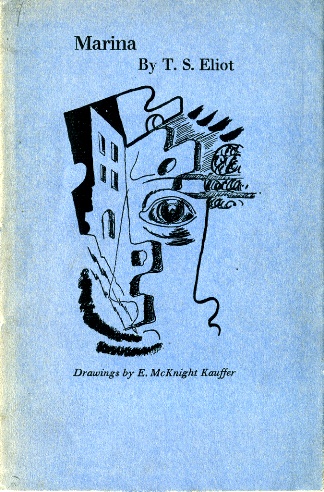C 1925 года, оставив службу в банке, Элиот работал редактором отдела поэзии в издательстве Фабер и Гуайер. По предложению одного из парнёров издательства, Джефри Фабера, он стал писать одно стихотворение в год для праздничных иллюстрированных буклетов, которые рассылались клиентам и бизнес-партнёрам фирмы в качестве рождественских поздравлений. В этом участвовали и другие авторы. Эти буклеты были частью "Серии Ариэля" ("Ariel Series") , которая выходила с 1927 по 1931 год. Все вместе стихотворения Элиота были опубликованы Фабер и Фабер отдельным изданием с использованием оригинальных иллюстраций лишь в 2014 году. Некоторые из рождественских стихотворений Элиота сопровождались рисунками американского художника-авангардиста того времени Эдварда МакНайта Кауффера (E. McKnight Kauffer).
I. ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ
Эдвард МакНайт Кауффер. "Путешествие волхвов" Т.С.Элиота. 1927.
«В стужу мы выдвинулись,
В самое неподходящее время
Для путешествия, и столь долгого путешествия:
Дороги размыты, и погода сурова
На исходе зимы».
И верблюды, разбив ноги в кровь, упрямо
Ложились в тающий снег.
И не раз с сожалением мы вспоминали
О летних дворцах на склонах, о террасах
И о девах, закутанных в шёлк, подносивших шербет.
Погонщики верблюдов роптали, осыпали нас проклятьями,
Требовали то воды, то женщин, а то и вовсе сбегали,
И гасли ночные костры, и не было нам приюта.
И были враждебны города, а городки – недружелюбны,
И селения были грязны, а постой в них дорого стоил:
Трудное время настало для нас.
Наконец, предпочли мы скитаться всю ночь,
Спали урывками,
И голоса звучали в наших ушах, повторяя:
«Это полное безрассудство».
И вот, когда стало светать, мы спустились в долину,
Где под мокрым снегом растительность благоухала,
И струился поток, и мельница водяная дробила мрак,
И три дерева стояли под низким небом,
И старая белая лошадь умчалась на луг.
После пришли мы в таверну, увитую виноградником,
Перед дверью распахнутой шестеро в кости играли на серебряники,
Пока руки сновали, ноги пинали пустые винные бурдюки.
Но для нас там не было вести, и мы продолжили путь,
И под самый вечер прибыли, ни минутою раньше,
Что было уже (как вы понимаете) сносно.
С той поры утекло немало – тьма дней и ночей,
Но и ныне решился бы я на странствие это, лишь бы понять,
Лишь бы ответ получить,
Что это было – то, ради чего мы осилили путь, –
Рождение? Смерть? Рождество, бесспорно, свершилось,
Мы тому очевидцы, сомнения нет. Но прежде рожденье и смерть
Мне такими различными представлялись. А это рожденье
Мученьем, агонией стало для нас, словно смерть, наша смерть.
И вот возвратились мы в наши края, в эти царства,
Но нет нам покоя и радости здесь, в лоне древнего завета,
В окружении чуждых людей, что вцепились в своих богов.
Я был бы рад другой смерти.
1927
II. ПЕСНЬ ДЛЯ СИМЕОНА
Господь, римские гиацинты раскрылись в вазах, и зимнее солнце
Как черепаха неспешно ползёт по снежным пригоркам;
Это время сурово и на уговоры не поддаётся,
Жизнь моя, этот свет, ждёт, когда погасит её ветер смерти,
И она, как линия на ладони моей, оборвётся.
Пыль в солнечных лучах, воспоминанья в закоулках
Ждут, когда их подхватит вихрь ледяной, что к долине смерти несётся.
Так пошли нам успокоенье.
Много лет я по этому граду слоняюсь,
Храня веру и твёрдость духа, довольствуясь малым,
На поклон отвечая поклоном, встречая почёт и уваженье.
Такого, чтоб дверь моя не отворилась пред гостем, ещё не бывало.
Но кто вспомнит мой дом, где поселятся чад моих чада,
Когда время скорби нагрянет?
Побегут козлиной тропой, и лисицы нора им прибежищем станет,
Когда время придёт спасаться от лиц и клинков чужеземцев.
Пока не настала пора тенёт, бичей, причитаний,
Пошли нам успокоенье.
Пока не нависла над нами гора безутешного горя и испытаний,
Покуда час материнской скорби не пробил,
Ныне, когда в самой смерти вершится рожденье,
Пусть Младенец тихим несказанным и несказанным Словом
Подарит Израиля утешенье, облегчит бремя страданий
Тому, кому восемьдесят и кто своё уже прожил.
Согласно твоему слову.
Они будут молиться Тебе и страдать за поколеньем поколенье,
Познают славу и осмеянье,
За светочем – светоч, по лестнице святости восхожденье.
Но меня не затронут эти мученья, экстазы и озаренья
Не для предсмертного зренья грядущее сиянье.
Пошли мне успокоенье.
(И меч пронзит твоё сердце,
Да, Твоё тоже).
Устал я от жизни своей и от жизней тех, кто придёт вслед за мной.
Умираю я смертью своей и смертями тех, кто умрёт вслед за мной.
Позволь же слуге твоему удалиться,
Узрев тобою дарованное спасенье.
1928
«Из самых рук Творца душа неискушённая»
Явилась в дольний мир огней изменчивых и шума,
Во тьму и свет, в тепло и холод, в сушь и сырость;
Меж ножек столов блуждая, под стульями ползая,
Поднимаясь и падая, жадная до игрушек и поцелуев,
Напирающая бесстрашно и вдруг, в один миг, устрашённая,
Ищущая прибежище на руках и коленях,
Обретающая подтверждение чуда и наслаждение
В ароматном великолепии Рождественской ёлки,
В порывах ветра, в солнечном свете и в рокоте моря;
Солнца блик разглядывает на мозаичном полу
И носится вокруг серебряного блюда;
Не разделяет действительное и грёзу,
Тасует игральные карты, королей и королев,
Верит деяниям магов и россказням прислуги.
О, тяжкое бремя мужающей души,
Что заблуждается и грешит все чаще день ото дня;
Из недели в неделю грешит и заблуждается всё чаще,
Вынужденная разрываться между «быть» и «казаться»,
Между волей и немощью, между сдержанностью и страстью.
Существования боль, опьянение грёз,
Сгорбившись, у окна сидит зыбкая тень
Над Encyclopaedia Britannica.
Душа неискушенной из рук времени выходит,
Нерешительной и эгоистичной, уродливой, увечной,
Неспособной ни двинуться вперед, ни отступить;
Она страшится жизни, отвергая её блага,
Не внемлет зову крови и не ведает отваги,
Тень тени собственной, блик, гаснущий во мраке
Кипы разрозненных бумаг в пыльной комнате оставляет,
Лишь в последнем причастии пробуждается и оживает.
Молись за Гутеррьес, одержимую скоростью и властью,
За Будена, разорванного на части,
За того счастливчика, что приручил удачу,
И за того, кто шёл своей единственной дорогой.
Молись за Флора, гончими затравленного в чаще,
Молись за нас ныне и в час нашего рожденья.
1929
IV. МАРИНА
Эдвард МакНайт Кауффер. "Марина" .Т.С.Элиота.
1930. Обложка
Quis hic locus, quae
Regio, quae mundi plaga?
Что за моря берега и серые скалы и острова
Что за воды плещутся за кормой
И сосны аромат и пенье дрозда лесного в тумане
Что за образы возродились
О дочь моя.
Тот, кто пса клыки заостряет, разумеет
Смерть
Тот, кто славой павлиньей блистает, разумеет
Смерть
Тот, кто в хлеву довольства сидит, разумеет
Смерть
Тот, кто в звериное исступленье впадает, разумеет
Смерть
Стали неосязаемы, развеяны ветром,
Дыханием сосен и песней лесной в тумане,
Благодатью, распылённой здесь повсюду.
Что это за облик, то зыбкий, то ясный до боли,
Пульс, то слабеющий, сбивчивый, то нарастающий –
Дано или отдано? Дальше, чем звёзды, и ближе, чем очи
Шёпоты, смех еле слышный между листвой и спешащей стопой
В том сне, где все воды, сомкнувшись, несутся единой волной.
Бугшприт крошит лёд, от накала потрескалась краска.
Я это свершил, я забыл
И вспомнил.
От Июня к Сентябрю по волнам
Снаряжение износилось и парус прогнил.
Всё вершилось в неведенье, полуосознанно, мною самим наугад.
Течь дала обшивка, кажется, нужно смолить.
Эта форма, это лицо, эта жизнь,
Что живёт во времени, в мире помимо меня; отрекусь же
От жизни своей ради этой жизни, от речи во имя неизреченного.
Пробуждение, полуоткрыты уста, упование, новые корабли.
Что за моря берега и гранитные острова навстречу
моей груде брёвен,
И дрозд лесной, взывающий сквозь туман
Дочь моя
1930
Эдвард МакНайт Кауффер. "Марина" .Т.С.Элиота. 1930
V. КУЛЬТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКИ
Есть несколько вариантов отношения к празднованию Рождества,
Некоторые из них мы оставим без рассмотрения:
Социально-предписанный, вяло-отстранённый, сугубо коммерческий,
Неумеренно-буйный (пабы открыты до полуночи)
И ребяческий – что не следует путать с отношением ребёнка,
Для коего свеча есть звезда, а позолоченный ангел,
Расправивший крылья над самой верхушкой ёлки,
Не простое украшение, но ангел.
Рождественская ёлка для ребёнка – это чудо:
Пусть же дух чудесного его не покидает
В этот Праздник, воспринятый не просто, как повод;
Так, чтобы сияющий восторг, изумленье
От первой, в памяти запечатлевшейся Рождественской Ёлки,
Так, чтобы внезапная радость обладания новыми подарками
(Каждый со своим особенным и волнующим ароматом),
И ожидание гуся или индюшки,
И трепет предвкушения, когда стол накрывают,
Так, чтобы благоговение и веселье
Не были оттеснены последующим опытом,
В скуке, в рутине, в накопленной усталости,
В осознании своей смертности, в горьком понимании краха,
В лицемерной набожности вновь обращённых,
Которая может быть отравлена тщеславием и чванством,
Неугодна Богу и отталкивает ребёнка
(И в этой связи я также вспоминаю с благодарностью
Святую Люцию, её гимн и венец пламенеющий):
Так, чтобы в преддверие конца, в восьмидесятое Рождество
(Или любое другое, «восьмидесятое» в значении «последнее»)
Накопившиеся воспоминания о ежегодном душевном порыве
Могли быть переплавлены в великую радость,
Что, в свою очередь, может обернуться и великим страхом,
Ибо страх охватит душу любого,
Когда начало послужит нам напоминанием о финале,
А первое пришествие – о втором пришествии.
1954
[1] Душенька (лат.). В заглавии аллюзия на первую строку стихотворения, которым, по рассказу Элия Спартиана, император Адриан обратился перед смертью к своей душе: «Animula, vagula, blandula» («Душенька, беженка, неженка»).