В тени Водолея (2)
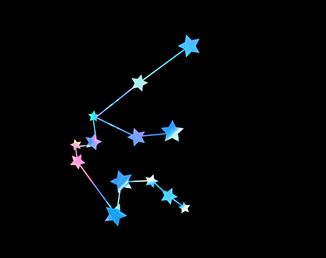
По новому кругу. Январь, яркость. Повез на казнь рукопись, в обувной коробке. Небо в ребрышках, артист, капелька ртути. Увенчанные лаврами, дивные и вещие. Жизненная правда и нравственный идеал. По-своему ставит слова и звуки, в своем порядке. Буран, насморк, Рождество, Казанский, толпа, свечи. Сучья качаются во мраке, Блок, несказанное. Широкое сердце, шире мира, задыхается, синие круги подлунных шествий. Параджанов, «Легенда о Сурамской крепости», 85 лет со дня рождения. «Память, вознесенная в образ. Я должен вернуться в детство, чтобы умереть в нем». Болезнь, температура, честная ртуть показывает сорок, и снова вечер. Неделя без воздуха, безвоздушная, семь кошмаров, бронхит, мороз, гололед, черная полоса. Приснилось: пишу книгу «Суеверия великих писателей». Все еще болею, не выбраться из этой ямы. Преступное, низкое, желтое, сытое. Желтый – цвет предательства. Иуда изображался в желтом плаще. Пятница, мороз, на Ржевку. Рукопись-ребенок. Зарезана. Тройка, семерка, туз. Ваша карта бита. Имя во мраке, о подвигах, о славе. Эхо последнего разговора. Он: «Я сейчас вообще живу без головы, болтаюсь, как какой-то кусок говна. Какой-то обломок». Я возразил: «Золотой обломок». Он: «Золотой еще хуже. Золото – значит, тяжелый. Скорее на дно пойду».
Февраль, мне 62, тусклость, месяц-враль, Феврония, камень за пазухой у судьбы. Пушкинская, литературный вечер, обо мне, филолог, казак лихой, орел степной. Заговорят, заговорят! Некуда назад! Телефон в час ночи, пьяная исповедь, совесть мучит. Таянье, дождь. Нет звона. Нельзя писать, нельзя жить. Надо, чтобы дух пылал. «Станционный смотритель», режиссер Сергей Соловьев. Гусар – Михалков. Мойка; нет, весь я не умру; толпа, речи, память той смерти. Кровь на снегу, Черная речка. Весь день молчим. Документальный, американский, Эдгар По. Его называли «Ворон». Был найден на улице в Балтиморе, без сознания, в чужой одежде. Седое утро, 13, снег. Лоран Эскер. Поэзия – это кульминация речи. Когда русская музыка исполняется китайцами, то в ней слышится китайская речь. Сократ о Платоне в передаче самого Платона: «Клянусь Гераклом! Сколько же навыдумал про меня этот юнец!». Сретенье, лыжи, мутный зимний день, мятущиеся метелочки, черная решетка, заснеженные деревья, дома, промельк машин на улице, шахматисты под синим навесом. Философское собрание, кидают камни ума в золотую паутину поэзии. Релевантность – что бы это такое могло быть? Похороны писателя Анатолия Степанова, Северное кладбище, ели-великаны, снег, замерзли, водка, метро Озерки. Встречал ставропольца на Московском вокзале, страшная рань, половина шестого, подвез Миша на машине. Ставрополец шатается, в руках сумищи, весь тираж, 100 экз., привет из Кабардино-Балкарии. Нальчик. Нашел, идиот, где издавать своего «Дон Кихота»! Метель, напился, ссоры. Сегодня заявила с серьезным лицом: «Нам пора расставаться». Помирились. «Чем больше мы знаем – тем больше надо знать, чтобы отменить то лишнее, что мы знаем». Акулы в тумане, их кровожадные рассуждения, Гиперборея, черно-белое мельканье клавиш. Встреча в метро, философ, ум-нус, энтелехия. Крыть нечем. Худогласен и косноязычен аз есмь. Книжный магазин «Родина», Велес, буковые дощечки.
Март, таянье, «Хевсурская баллада», молодая Чиаурелли, горы, снег, две черных фигуры в косматых шапках, наведенные ружья, выстрел. Литейный, Ахматова, библиотечный коллектор, пудовый рюкзак с сочинениями, моими. Постоял в саду, солнце, голубое небо, снег тает, как тогда, в такой же мартовский день, она, в черном пальто с меховым воротником. На Невском окликнул писатель Тропников: «Овсянников, куда бежишь?». Мои безответные звонки, туда, в никуда, в бездну отчаянья. На платформе, блеск рельса, поезд отменен. Добрались, стол на дворе, по-родственному, брат, двоюродный, водит автобус, Евгений, не бедный. Возвращались под хмельком, Луна и Венера. Телефон, из отдела редких книг, делают книгу «Белорусский Петербург», нужны сведения о моей причастности к Белоруссии. Музей Достоевского, вечер Кости Крикунова, Шельвах, Ильянен, мокрый снег. Малая Морская. Здесь жил Гоголь. Сверху идет сила, но внутри нет духа. Орфей – лечащий светом. Сны, темно, мокрая метель, дни-ночи, пусто-густо, хожу, как мертвый, отделение милиции, поликлиника, гаражи, стрекот капель, чириканье воробьев, в глазах черно. Моисей повел евреев из Египта, когда ему было 80 лет. И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. И будет небо над главою твоей медяно и земля под тобою железна. И будешь обидим и сокрушаем во все дни. Все словеса, написанные в книге сей… Среда, читать, голос глухой, как из пустой бочки. Туман, таянье, автобус, еду, черные клены, кресты, тот ноябрь, чистый снег, утром выпал, белый-белый, как божий покров, царствие ей небесное. Чтения, Гоголю, нобелеаты, я читал «Лестницу» и «Жалейку». Сергуненков: «Вы же талант». Случайные встречи, беспамятство, дни выпадают, блеск стекол, Мойка. Вам нужен труд, вам просто нужно заставить руку побегать по бумаге. Славная собака Париж. «Мертвые» текут живо. Приморская, о Платоне. «Ну что это за название!». Не падай, гордый человек! Стой твердо на своих двоих! Стой, как гора! В. Алексеев, А. Михайлов, «Борей», выставка Ю.Медведева, шестеро в лодке. Шесть писак. На носу, сине-зеленый, что-то птичье, морское, волосы-перья. Чайка, не чайка. Не скажи я сам себе, что это – я, ни за что бы не поверил. Тропников: «Я как Печорин, простужаюсь от раскрытой форточки». Звонки в неизвестность, Н., кашляет. После смерти Гоголя осталось имущества всего на 48 рублей и 38 копеек, старые панталоны, жилеты, носки, 262 книги. Александр Родченко. «Клоуны и акробаты не могут быть реалистом. Я предпочитаю необыкновенно видеть обыкновенное, чем обыкновенно видеть необыкновенное. Я предпочитаю из обыкновенного делать необыкновенное, чем из необыкновенного – обыкновенное». Понедельник, исполком, сестра, дела по наследству. Гуляли в парке, таянье, рыхлый снег. Институт Герцена, с Невского налево, сто шагов, за решеткой, памятник Ушинскому. Тускло, вьются хлопья сырого снега. Вход в библиотеку, Зимний зал. Пальмы в кадках, от окна дует, на экране портрет Гоголя, речи ораторов за трибуной, старики и старухи разглагольствуют о великом писателе, о молодом человеке, умер в 43. После речей – столы, шампанское, коньяк, закуски. Вышли, темнеет, до метро, Валентин, бывший моряк, военный врач на пенсии, капитан 1-го ранга, веселый, громадный, орел. А мы с ней – два неразлучных воробушка. Ночью – жар, не уснуть, читал до 6 утра Ю.Манна о Гоголе. Брезжит что-то, призрак нового дня, страшный, пустоглазый, в талых подтеках. И ужасеся сердце людий, и бысть яко вода.
Апрель, отключили отопление. Патриарх Кирилл, Вырица, толпа у церкви, чествование Серафима Вырицкого, богослужение. Дух слова и слово духа. Дух пишет, как дышет. Назначенная встреча на выходе из метро канал Грибоедова, Сергуненков, идем к Сенату смотреть, правильно ли крест поставлен. Нет, не на восток. Большая Морская, в Союз художников, выставка Климушкина. Коготь бессонницы, опять, опять эти страхи. Ибо в нощи не спит сердце его. Тоска, шуршание шин в переулке, всхлипы слякоти, синий фургон «мебель для квартиры». Тускло, Витебский, доска расписаний, асфальт сухой. Троллейбус «восьмерка», до Троицкого собора, ей надо помолиться, а мне?.. Купола синие в золотых звездах, два малых, новенькие, а центральный после пожара еще не восстановлен. В Италии землетрясение, жертвы. В Шушарах железнодорожная катастрофа, столкнулись товарняк с электричкой. Книга ночного неба, реченья созвездий, страница Млечного Пути, светящаяся пыль письмен. Блуд слов, ветвистые витии этих чащ. Бодлер, ветер, яркость, крики воронья; прошлогодние листья летят над землей в голой чаще. Страшная, мертвая стая. Мы с ней на Марата; идем, «Медтехника», музей Арктики-Антарктики, белые колонны; полчища грязных городских голубей, у них битва, буря крыльев, шум и ярость, бьются насмерть за корм – рассыпанное на ступенях пшено. Душный асфальт, толпы, траншеи, машины, светофоры, вывески; жду, когда она выйдет из этих стеклянных дверей. Обещали дождь, небо уже такое, достаточно мутное и нахмуренное. Вынырнули из метро – вот и он, брызжет потихоньку, запах влаги, тепло, апрель, веянье это. Ничего, ничего, поживем еще. Купили прибор – повышать углекислый газ в крови. Ларин, рак почки, завтра на Березовую. Пролить слезу над ранней урной. И возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к богу, иже даде его. Дымчато, пруды, костры. Гоголь Аксакову: «Вообще же я человек не мистический». Перед смертью Гоголь по требованию священника отца Матфея отрекся от Пушкина. На обрывке бумаги неоконченная запись: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?». Дальше рисунок : книга захлопывает человека с лицом, напоминающим лицо Гоголя. Последние слова Гоголя: «Лестницу, поскорее давай лестницу!».
Умер Вильям Козлов. Минута молчания. Почтим память. Пасха. Ее несчастная слепая мать кричит по ночам, галлюцинации. Васильевский, ЛЕНЭКСПО. Пятый час! Опоздал! Гоголь и Белинский. В «Книжную лавку писателей». В пыли по магазинам, не брал и не берет. Плетусь, блеск чешуи, крики чаек. Так это пруд? Крест в облаках. Петра и Павла. А там, за церковью, под солнцем – золотая дымка, земля зеленовато-бурая, по Стачек постукивают трамваи, ветер шевелит сухие, прошлогодние листья, собаки бегают вдали по лугу, играют, весна, апрель. Стою, смотрю. Ведь таким несчастным себя чувствовал, таким ненужным, таким убитым. А тут полегчало. Эта ниточка еще тянется, ножницы подождут. В Карелию. Рань-ранняя. Доспим в машине. Собратья по перу. Поселок Пряжи, встреча в школе, директор, две учительницы, школьники и школьницы, музей боевой славы. Привезли им в дар наши книги. Нас чествуют. Таянье, блеск ручьев на дороге, кучка школьниц предвыпускного класса, расстегнутые куртки, юные лица, покажут достопримечательности. Деревня Маньга, старая церковка на горе, деревянная, окошечки, разбито стекло, ветер гуляет, в углу рисованная иконка «Ангел златые власы», обернутая рушником с узорочьем, рушник трепещет на ветру. Лесное озеро, сосны, тут все еще под снегом, дико, дремуче. Обратный путь, Свирский монастырь, нельзя не посетить. Огромное озеро подо льдом, молитва у мощей святого Александра Свирского, молебен, колокольный звон, солнце, монастырский двор, черный монах в рясе и колпаке с развевающейся накидкой, березы, галки.
Энергия имени. Гамлет, померкло. Остальное – молчание. В слове светится его сердцевинка. Дионисий Ареопагит, «красота» (каллос) от «килко» – «призывать». Проблематично, а не канонично. Количество буквы и количество духа обратно пропорциональны. Чем больше букв (слов), тем меньше духа. Искренний – твой ближний, плечо друга на дороге. Человек есть творение словесное. Красота языка скрыта в архаике. В слове сокрыта самая великая энергия, известная на земле. Человек – это его речь. Скажи слово, и я скажу, кто ты. «Я приходил к вам, братия, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. И слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Ап.Павел. От Бога должно исходить непонятное слово, если слово понятно, оно слишком человеческое. Для того, чтобы слово что-то изменило внутри человека, надо, чтобы он понял. На примере санскрита: насколько важен звук, сочетание звуков – чтобы настроить на высшие сферы. Говоря о Боге, представляем мы образ или понятие? Понимаем в понятии или чувствуем в образе? Молчание, отрешение от речи – полнота присутствия Божьего Слова. Да умолчит убо всякая плоть человеча.
Май, луна-чайка, тесно в стенах; тоска, тоска, трамваи по Стачек, этот стук, лязг, блеск стекол… Махнем куда-нибудь, крыло седое, Татлин-Летатлин… Гулянье, пруд, луг, костры, шашлычные дымки, машины. Малинин в камзоле, «Луной был полон сад». Звонки, встречи, речи; усталый раб, побег, расписание поездов, Витебский. Бессонные ночи, ссоры. Поздравляю: отросли коготки – рвать мне сердце. Мышья беготня, Парки лепетанье. Панченко: «Я эмигрировал в Древнюю Русь». Не любил интеллигенцию, «интеллигент» для него было бранное слово. Показывают картины, немые кадры, рябь дней. Психея-волна, изумрудный блеск изнанки. Нахлынула, схлынула. Библиотеки, читальные залы, книги, книги, каждая кричит о себе: «читай меня!» Разноголосый хор книг. Рев авторов. Писатели – честные, серые тряпки, литература – их бессменно шумящий и грохочущий цех, каждый за своим станком. Что ж, поживем врозь, она в городе, я – здесь, у Бога за пазухой. Натопил печь, жарко; тяга луны, сад, рай в шалаше, вздохи, шорохи; два бледных призрака, Адам и Ева. До грехопаденья или после?... Ставил парники, пилил дрова. Вечером к реке, Оредеж, ярко, прожектор с того берега. Так это ж она – чертовка! Царица ночи. Геката. То стеклышко, бутылочное, у него, на плотине… Опять жарко натопил печь. Панченко, свеча, Аввакум, боярыня Морозова в яме, умирающая от голода, просит у стерегущего ее стрельца: «Умилосердися, раб Христов! Зело изнемогох от глада и алчу ясти, помилуй мя, даждь ми калачика». Стрелец отказал: «Ни, госпоже, боюся». Вернулся в город. Вот еще, она и не думала горевать. Разлука ты, разлука, чужая сторона. С луны свалился? С Марса? Порохом пропах?... Мы тут празднуем. Не знаем, как у тебя, а у нас День Победы! Простором подышать. Березовая роща! Зеленеет! Давно не виделись. Светло, легко, Забела-Врубель, девушка, освещенная солнцем. Громовый хор лягушек, с реки, в камышах. Брачный чертог, песнопенья, Гименей. Поздно. Нахватаемся сырости. Аристотель Фиораванти – цветок на ветру. Решето переводов. Ураганное утро. Шкловский, Якобсон: самолеты нашей мечты так и не взлетели. Аз состарехся и проидох дни. Аз же днесь отхожу в путь, якоже и вси иже на земли.
Любоваться цветущими кленами. Молчим. Вечером ссора, люблю, не люблю. Помирились. Работал в саду до семи вечера, посеял укроп, редис, репу, лук, салат, шпинат, щавель. Начался дождь, польет мой посев. Встал в пять, светает, мглисто, запахи, тишина, жемчужно живем. Зеленые паруса лесов. Смотрю на мир через призму мощи. Могу, всё могу – и то, и это. Книги-ракеты, запущенные в дальнюю галактику на краю Вселенной, им лететь биллионы лет. Глаз солнца между сосен, яркий голос соловья. Южно-приморский гранит, тучи, ветер, костры, шашлыки, пиво, гульба, музыка, пьяные, толстозадые. Панфилов, Фильм «Мать» по Горькому, оператор Агранович. Красное знамя, вокзал, жандармы, кровь, мать – Чурикова, конец. А мы с тобой предполагаем жить. Продолжение следует. Стоит в степи каменная баба, ждет, когда приду и поговорю с ней. Скучно ей одной стоять века. Самые необходимые слова в роковые минуты. Страшные слова, от них сотрясется земля. Цветущие шатры черемух, майские мечты, белые ночи, соловьи, пруды. Ночью у крыльца, смотрел на звезду, Вегу; какой-то тихий, едва слышный серебристый звук сверху. Чтоб это могло быть? Посадка злаков, тепло, южный ветер, яблони в цвету; кукушка, голос ее из-за реки, гулкий, влажный. В городе. Жаркий день. С ней на Невский. Дворцовая, фотографировались у золоченых ворот Эрмитажа, у атлантов. Пешком по набережной, до площади Труда, закат на Неве, жарко; лайнер разворачивался у моста Лейтенанта Шмидта, белоснежная громадина. Домой вернулись в начале 12-го. Так ведь белые ночи уже, можно хоть до утра гулять.
Июнь, Витебский, везу рассаду, огурцы, кабачки, тыквы. Жара, сирень. Сварил куриный суп и гречневую кашу. В саду, голый. Вторник, молочница, бывшая филологиня, теперь у нее ферма. Пришла косить траву. Четверг, дождь, холод, простуда, бессилье, дышу, загнанная лошадь. Утро, окно, сирень, шум дождя в саду, шелест его струистых страниц. Капитан Копейкин, дотащился он кое-как до Петербурга. Въезд в какой бы то ни было город. Предстанут колоссальные образы. Появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда. К чему таить слово?.. Воспитанному суровой внутренней жизнью… Дождь, буря, холод, стихии разыгрались, потрясены основания, ждем конца света, предсказанного майя в 2012 году, уже скоро. Сметет, смоет. Мир-жир весь из дыр. Неартистично, черный квадрат. Троица, на кладбище в Красное Село, отец, теперь и мама, цветы на их могиле, помянули. Фильм о Горбовском. Для звуков жизни не щадить. Холод, мгла, дождь, едем, метро Московские ворота, Новодевичье кладбище, годовщина смерти Миши. Там уже собрались его друзья музыканты. Дирижерская палочка на надгробной плите. Склепы, могила Некрасова, монастырь. Какие все стали старики. Поминали в беседке, жгучая водка. То в город, то из города. Полный вагон, жарко, сосны, шиповник. Вечером гроза. Сидел наверху у раскрытого окна, молнии летели в глаза, вспыхивая, как цветы. Отгремело, отсверкало, расколотые скорлупки, ехали с орехами, юность, свежесть, спать… Часы встали. Утренние поезда. Сон-Сатана на черном троне. Низвергнут. Стреловидная ласточка. Ревень под окном, сочно-зеленый, лопушистый, разросся. Память о маме. Бедная моя мама, видишь ли ты меня?.. Мечты и звуки, радужные мосты сожжены. «Влечения – мифические существа, великолепные в своей неопределенности». Зигмунд Фрейд. Неужели? Неожиданность девичьей ножки у психоаналитического слона. «Промежуток между ужасным действием и первым побуждением похож на призрака или кошмарный сон». Шекспир, «Юлий Цезарь», слова Брута. «Тот, кто отнимает двадцать лет жизни, отнимет столько же у страха смерти». Там же. «Человек не может жить без постоянного доверия к чему-то неразрушимому в себе, причем как это неразрушимое, так и доверие могут постоянно оставаться от него скрытыми». Галка из Праги. Обугленный шкаф, процесс превращенья из Александра Македонского в глину для затычки, разрушенный замок, туберкулез, завещание – сжечь все слова, написанные его сновидческой рукой. Всю ночь дождь, и сейчас хлещет, шум низвергающегося потопа. Отверзлись хляби небесные.
Тучи, стучу на машинке. Дожить до пятницы. На почту, заплатить за электричество. Соломон, вброд через этот словоблудный поток. «Да?» «Да!» «Нет?» «Нет!» Волчий вой. Изречения, тощие и толстые. Искусство – это укус вурдалака. Чувство красоты, правды и меры. Бедное, бедное ископаемое, позвонки, клыки. Жарко. Бродяга с сумой на плечах, «нобельку получил». Его ненависть к Блоку. Соловьиный сад. Я ломаю слоистые скалы в час отлива на илистом дне. Ахматова об этих четырех: «Волшебный хор». Любимое слово рыжих – «метафизика». Сестра как никак, надо ехать, вот и ей 58. Холмы, мглисто, стол. Обратный путь, дождь, промочил ноги. Ночью, во мраке, при фонарях – фантастический шум ливня в переулке. Долго слушал у открытого окна. Один в квартире. Старый американский фильм, герой побеждает всех, всю банду. Проснулся, сводит ноги, боль жуткая, стонал, выл, растирал голени. Что такое со мной? Все мерещилось в мозгу: этот свой внутренний голос, свой язык, на котором я говорю, только я один, и никто, кроме меня, на нем не говорит. Вот никто и не понимает меня, когда я говорю на этом моем языке, он такой серебристо-сиреневый, птичий, что ли. Чтобы меня понимали, я говорю на их общем, человеческом языке, который для пользования, а свой прячу подальше. Понедельник, два дня в городе. На Пушкинскую, Алексеев. Сжатость и краткость. Это у Хемингуэйя?.. Побег из города, поживем, еще бы лет десять. Божья дудка за пазухой.
Собака ночью на дороге, разбудил лай, не уснуть. Воздух в саду острым холодом веет, сырой. Обратно в дом, задремал под утро в шестом часу; уже светло за занавеской, в голове карусель черных мыслей, апухтинских, гром первой электрички в город, многоколесный железный вихрь. Приехала, бледная, озабоченная. Ходили за молоком на ферму, через железную дорогу. Козы, рыжий конь, теленок, куры. Петух, великолепен, орет во всю глотку, горлопан. Молочница (филологиня) подарила ведро навоза. После обеда купались. Радуга на сизом небе. Уехала. Ночью проснулся, кто-то шебаршит в углу. Мышь, крыса? Лежал без сна, опять дождь, шум ливня, уже светает, да и была ли ночь. Утром облачно, запах влаги в саду, солнце выглянуло, повеселей в мире; а вот и опять тучи, темные, дождевые. У Льва Толстого есть эпизод с моей фамилией: некий Н.П.Овсянников написал рассказ «Эпизод из жизни графа» и прислал Толстому на суд. Тот сделал в этом рассказе поправки. Похолодало, сплю на веранде. Острие роста, на этом хрупком острие нового, на кончике языка готовится удар новизны. Лев Толстой о Кюхельбеккере: «Обманное призвание». Правда глаза ест, горькая луковица. Извлек экстракт из древа жизни: добро и зло. Воскресенье. В городе, один в квартире. До полуночи смотрел «Остров сокровищ», Сильвер – Борисов. Проснулся в девять, холод, дождь. Побег из города, бессонная ночь, больные, слепые. Спал наверху, под утро разбудили вороны, грохотали когтями по железной крыше. Распахнул окно, тучи, запах влаги. Лег опять, дождь начался, шум дождевой сильней, громче, с нарастанием. Забылся. Опять проснулся, дождь все хлещет. Сад затоплен. Привезли дрова на самосвале, дотемна таскал к сараю. Чурбаки, колоть. Лев Толстой о подделках, лжеискусство. Сплю без снов, ночи теплые. Живем втроем. Она в одной комнате со своей несчастной слепой матерью. Три года как ослепла. Имя с берегов Эгейского моря, твержу, твержу эти л,а, р, с. Посреди ночи разбудил ее страдальческий голос, вопль отчаянья. Что-то с грохотом упало на пол. С нашей дачею дощатой может и не то случиться…
Зацвел жасмин. Колю дрова. Толстой против Шекспира, обвиняет в отсутствии меры, все у него преувеличено, все чрезмерно. Что же мне делать с этой чрезмерностью? Куда мне с ней? В Елабугу?.. Мглисто, сад после дождя. Буква – атом письма, незримый господин, раздвоенный язык, жало мудрыя змеи. Решето, стерто, Астарта, увенчанная луной; и птичий клюв Тота, бога писцов – рогатый повелитель моих кошмаров; громкий разговор трех цыганок на дороге у нас перед домом. Разбудили, ведьмы. Бродяга, вброд, через родную речь, утонет идиот, глубоко, омуты. Стихотворение – это лингвистическое событие с фитилем в руке динамитчика. Тучи, влажно, мешает музыка у соседей. Снилась книга, написанная водой и ветром, – то, на что горестно отзывались мои нервы. Может быть, это последняя книга, написанная мной в соавторстве с этими двумя стихиями, когда нервы еще отзываются на жизнь, угасая, замирая. Пишется не для читателя, не для себя, не для самой книги. Пишется, потому что нервы дрожат от ударов извне и отзываются то стоном боли, то вскриком радости. Нервы текут, как вода, как река, от истока к устью, от рожденья к смерти, нервы-струны, нервы-струи. Орфей растерзанный, вдоль Гебра, вдаль… Кончено, кончено… Голова и лира… Замерли, рояль молчит. Сосна. Закат. Каждый день этот исполинский Уход. Опять и опять тонуть в себе. Погружение в бездонное одиночество. Сочится подводным свеченьем разрезанный надвое гигантский лимон. Фразы-водолазы. Столкновение поездов смысла и образа в одном слове, катастрофы, взрывы, на суше и на море, на небе и на земле. Мысль мгновенно меняет лицо, она уже незнакомка, упругие шелка, духи, туманы… Откуда она? Из головы Зевса? Или дитя воды и ветра? Чья это игра? Кто играет с человеком в жмурки и кошки-мышки? Это Водолей, это Он со мной играет, неумолимый, на жизнь и смерть. Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу… Сегодня нашел в лесу диковинное корневище, Божье созданье. Нерукотворное.
Формы и формулы, орел и решка, двуединое жало. И Божий лик отобразится в них. Мать-Земля, Гея, в головах всех ее сыновей одни и те же мысли, Ее мысли, сполохи Северного сияния, игры творящих превращений. Кто ты, Великой Матерью любимый? Смертной мысли водомет… Но длань незримо роковая… Мысль, Царевна-Моревна, растворенная в море-океане, в воде кругло-синей, София, Премудрость Божья, по всей Сфере щедрот. Кристаллы соли, выступившие из центра сил. Бедные кристаллики, им хочется обратно в раствор. Облачно, ночи потемнели, душа – шар, внушение свыше – нашам, дыхание бога. Юлий Цезарь отсчитывает последние золотые денечки своего месяца. Вначале были чары, волшебство, колдовство, шепот молитв и заклинаний, колдовская сила, Орфей. Искусство – иридий, редкий металл, неземной, метеоры из космоса. Сказанные слова – это только пузыри на поверхности моря, обнаруживающие след плывущего под водой на глубине неизвестного чудища. Настоящие, главные слова – это несказанные слова, подводные. Слово плывет на глубине. Сказанные слова этого глубоко плывущего скрытого Слова – пузыри на воде, следы его движения. Читатель плывущего на глубине Слова, ау, ау!.. Писать тревожно и тщательно. Вот ты какой словесник-кудесник; посмотри, щепка, на себя в зеркало! Скелет тебя краше! Высосало слово из тебя всю кровушку, тварь дрожащая, бессонная, вздрагивающая от каждого шороха. Звук рисует узоры у меня на столе, завитки морских раковин, приливы и отливы, пульс воды и ветра, ритм дыхания Водолея. Тредиаковский, серебряный колокольчик его трактата. Стрела кремнистого пути. «Поэзия – токмо звук». Тяжелые сны, сырые ночи, утром роса, ласточки, солнце на час, обессилен, руки как ртуть, дрожу, безлунность, капельки звезд дрожат вместе со мной, всю ночь, всю ночь… Страшна бесчеловечная старость. Приехала, купались. К вечеру у нее поднялось давление, лежит, голова замотана белым платком. Запах еще горячего смородинного варенья. Остынет – разольем в банки. Ночь, дождь, мрачно.
Проснулся с головной болью. Прохладно, комета. Катится это черное, многоглазое колесо; бабочка порхает над маком. Асмодей, чрезмерность. Гомер, тугие паруса. Гордо задранная голова, пиджачок, тюбетейка, всегда и везде читал свои стихи, громко декламируя, маша правой рукой, левая, сжатая в кулак, в кармане пиджака, опустив веки, никого не видя, слепой, натыкаясь на встречных. Возьмет за пуговицу, отведет в угол или в тень и читает свои стихи, в Крыму, в Москве, в Петербурге. Потерял Данте на итальянском. Волошин требует книгу назад. В ответ ярость: Волошин подлец, мерзавец, как он смеет требовать! Пишет Волошину громовое письмо в Коктебель: «Знакомство с Вами – это большое несчастье». Понедельник. Всю ночь дождь, гроза, Илья-пророк, просыпался раз пять, сыро, рано, поезд прошумел, как птица. Елена, еле-еле, западают клавиши памяти, старость. Серебро годов, с тобой мы в расчете, молниями телеграмм… Володе шесть лет, на дворе чуры – грузинские кувшины для вина, большие как быки, лежат на боку. Володя забирался в такой кувшин и декламировал оттуда своей старшей сестре Оле: «Был суров король дон Педро». Слои языка, породы Земли. Душа моя! Гостья ты мира… Пчелы черных солнц, язык бессмысленный, солено-сладкий. Ночь, дождь, вино, горячий шепот, луна. У, какая! Дракон в тучах! Спускаться по ступеням в подземелье своего сна, спать. Бред, голоса из космоса. Выросли новые органы чувств, ломкие, чуткие, как отраженья на призрачной, черной воде; усики, ромбы, спирали, глухота, слепота; устрицы, спящие в лунных раковинах.
Плющ разросся, завесил окно на веранде, надо его обрезать, – говорит она мне – чтобы стало опять светло. Психопатия, радиоприемник у соседей. Холодная ночь, спим врозь. В семь утра спустилась с верхнего этажа, говорит, замерзла. Шум поезда – лавина с гор, не хочется вставать так рано. Да и зачем? Лежи себе, лежачий камень. Самое важное скажется само, лозы прозябанье, три пальмы, пустыня-гусыня, совесть-повесть. Вольтов внутри нет. Чувствую чистые линии письма, художник бедный слова, взыскательный искатель фраз. Курносая Истина на троне-черепе. Полнолуние, сыро, холодно. Разбудила собака на дороге, лает и лает. Вышел за калитку отогнать. Луна гигантская во все небо, Ярое Око. Ненаписанная книга, призрак, смотрит, вещие зеницы, Иезекиил. Лежу, труп, в пустыне, жду воскресения из мертвых. Божий глас: «Встань!» Встаю, иду. Что-то брезжит в тумане. Туман редеет, берег, старая сосна, река. Так это наш Оредеж! Он самый и есть! На борту лодки номер желтой краской. Не прочитать, расплывается. Беспамятство, забвенье, Лета. Ладони ковшиком, зачерпнул, сладкая, утолит жар. Чувствую в себе громадную силу. Эта сила ведет за собой, как яркая, сверхмощная звезда. Вот она растет, разгорается в небе, все больше, больше, грандиозная, космато-огненная. Ведет за собой – вестница великой судьбы…
Идем к молочнице, в баню, солнце, яркость, жаркий летний день, двор, куры, козы, гуси, рыжая кобыла. Опять ночь, чары луны, невесомость, экстремизм этих излучений, ножевых, пронизывающих кости; сам я в белой рубашке, лунный, безумный, бессонный, с камнем в руке. Кто дал мне этот белый камень? Имя на нем начертано. Мое имя. Это имя тайное, не то, каким меня называют здесь, на Земле. Это мое тайное имя знает только один Бог. Вот Он зовет меня, глас Его слышу в ночи, призывает меня, произнося это тайное имя. И я иду, иду… Опять снилась ненаписанная книга, с рисунками морей и гор, как гигантская жемчужина в перламутровых переливах, скрытая в раковине звездно-сферической обложки. Загадочная способность писать вилами на воде, коготь льва, хвост скорпиона. Вышел, луна, белое пламя, ледяной жар, страшно. Вообще – жить страшно, как это я прожил 62 года с таким страхом? Постоянная дрожь внутри, нервная лихорадка, ничем не унять. Спим врозь, брачные узы ослабли, вот-вот оборвутся. Слышал: встала в семь, ехать в город, не выспалась, ее слепая мать, шум и крики среди ночи. Измучилась. Утром – солнце, и ничего, опять живется, радость-младость. День, как на дне, тяжесть водяного столба давит на позвоночник. Сад замер, гроза зреет, тень Титана. Читаю Книгу. Чудовищная! В каждой букве заряд в миллион вольт. Написано молниями. Ослеп. Пошел купаться. Вода, жизнь, Мильтон, огнистая рябь, письмена солнца, порывы теплого ветра, еще лето, и я на дороге, прозревший. Мглисто. Снилось, будто я сплю с коровой: морда коровы, а тело женщины. Минотавр любви, страшные ласки. Утром у реки, три резиновых лодки с гребцами, проплывали мимо и уплыли, исчезли из глаз. Записав эту фразу, резко понял: лодки в глазах и лодки в словах – ничего схожего. Ужасное открытие! Сильно испугался. Девушка, письмо, дикие песни нашей родины, вся в черном, вся стерлядь. Железный тон. Мощь в тонких вещах. Тонкое –вещее. Вибрация струнной души, нет-нет да и послышится какой-то только мне свойственный тон и тут же пропадает в гласе воды и ветра, заглушается в шуме мира. Идем с ней через лес к платформе. Прислушались: не поезд ли шумит? «Идет!» воскликнула. «Бежим!». «Подожди!» остановил я ее. «Это ветер в соснах. Никакой это не поезд. Ветер, ну, конечно». Она не верит, вслушалась снова. «Ну как же ты говоришь – ветер. Это поезд, я точно сейчас гудок слышала». Но я-то не слышу этого гудка, который, якобы, слышит она. Сказано же: поезда отменены до вечера. Потемнело, туча, черно-сизая, ползет с запада, от реки, над дорогой, на нас. Сейчас пойдет дождь…
За стеклами в Вырицу. Она знает, где продают. Стекол нет, будут в конце августа. На рынок. Скрылась за дверью, той или этой, мясо, мед, рыба. Стою, жду, лотки, прилавки. С громом проехал фургон, едва не задев меня бортом. Потемнело, дождь. Черное крыло. Ее все нет. Лариса – ее свистящее волшебной флейтой имя. Ах, Моцарт, Моцарт! Пропала, сквозь землю провалилась. Персефона, ласточка, Орфей в аду. Тревожно, страшно. Сны, звездно. Лечу ввысь, в эту разверстую бездну, держа в руках тетрадь и ручку, быстро-быстро записывая неслыханную, фантастическую, неземную жизнь. Сижу в норе, глубоко-глубоко под землей и пишу какую-то земляную, геокнигу с кристаллами различных, неизвестных миру пород. Вулканическая тоска, не печалься, друг пепел. Гаснем помаленьку. Стар – убивать. На пепельницы черепа! Старому лучше не жить. Спать, вспять. Маяковский, его последнее выступление. Шатаясь, сошел с трибуны, смертельно усталый, разбитый, бледный, сел на ступеньку, никто не подаст стул. Зал орет тысячью злобных глоток: «Маяковский, ваши стихи нам непонятны! Вы не поэт!». Потомки, потемки, кипяченая, сырая, товарищ жизнь, брызнь. Дождь весь день, к вечеру стих, гуляли у реки, мрачно, сосны, корни. Читаю, птичья карусель, Чайковский, патетично, время содомское, стакан холеры. Неписательно, ни буквы с пера не льется. Оредеж в тумане, плавники, жабры; Набоков на велосипеде, блестит звонок. Рыбак в лодке, размахнувшись, закинул удочку до середины Днепра. Эх, мировой замах! Ловец! Зацепит за сердце, поведет смычком по душе. Пепел рухнувших планет. Полуслова и полутени. Светало. Но не рассвело. Клубки и спирали, хороводы, узоры, черный воздух этих миров. Страшно спать, тропа Трояна, шумер, халдей, пилотирует, скалы, волны, детская пятка Икара. Мглистость сада в запотелом окне. Рано, еще не заря. Под утро забылся. Поезд-петух.
Ходили в лес, грибы, брусника, черника, вернулись под дождем. Вечером писал письмо в Ставропольский край. Спал плохо, комар пищит над ухом, дождь постукивает по крыше сырыми пальцами капель. Лежу, мысли. Оборотни. Дерево, человек, слово. Яркость. Скучен мне понятный наш язык. Мой странный, мой прекрасный брат. У реки три Евы сидят под елью, смотрят на закат, свистят. Звездно. Ледяная броня, под ней только сердце. «А ты поди да и победи». Куинджи. Пир во время чумы. Ураган аравийский. Детство Петра Первого, юность, Оружейная палата, фрегаты, Переяславское озеро, стрельцы, Софья, женитьба в 17 лет, Лопухина, красавица, топоры, пищали, пушки, знамена. Облака. Отравился. Собака на дороге. Ночь в грозовом мешке. Или это конец, или начало. Чего? Конца? Петр сверг Софью, 1689 год. Корабли, Гордон, Лефорт, фейерверки, пиры, великий шкипер, большой бомбардир, сын твой Петрушка, Архангельск, стремление к морю, Белому, Черному, Азовскому. Азов, турки, татары, пушки, стрелы. … Сыны Слова, а вокруг густопсовая сволочь пишет. В Вырицу, заказали стекла. Жарко, на рынок, купили мяса, рыбы, помидоров астраханских, моркови, персиков. … Петр под Азовом, два штурма, неудача, отступление, настойчив, добьется своего, строит струги в Воронеже, энергия, не ставит себя во главе, прячется за подставным, носит немецкое платье, когда вся страна ходит в русской одежде, самые близкие друзья – иностранцы, Лефорт, Гордон, особенно Лефорт, лучший друг, мин херц. Петру 24 года. … Еду в город, отвезти рукопись в Публичку, в ЦГАЛИ, успокоить совесть. Думал: достичь высшей точки силы в слове. В Вырицу за стеклами. Тепло, облака, обещали грозу, парит. Стекла упаковали, обернув в покрывала и перевязав; привезли на такси, шофер почти мальчик. Ночью дождь. Слепая за стеной не дает спать, бродит ночью; Лариса с ней в одной комнате. Измучилась, неся этот крест. Несчастные обе.
Опять про Петра. Азов взят. Большой капитан возвращается в Москву, Триумфальные ворота, гром пушек, знамена, речи. Большой капитан идет пешком за каретой раненого Лефорта, верзила в черном немецком платье, в шляпе с белыми перьями, чулки, башмаки. … История больших энергий. Вся история – это только история энергии. Энергия смотрит сквозь свою черно-белую призму. Ян-инь. Умереть с пеньем на устах – долг поэта. Хоть бы струйкой шевельнулись воды по хребту зеркального озера. Конница, Чингисхан, черные имена, степь в стременах, мастью весь в молнию я, выше по касте, чем люди, я обдаю огнем. Шмель в пыльце, мельник. Поход в лес, на лодке через Оредеж, путь она хорошо знает, набрали на ее любимом месте, грибы, брусника. … Большой капитан Петр Михайлов едет за границу, в Голландию, учиться строить корабли, с ним тридцать, неразлучный Лефорт, двойник, такой же высокий, чуть ниже, пошире в плечах. Среди тридцати и Алешка Меншиков. Через Ригу. Срочное возвращение в Москву, стрелецкий бунт, отрубленные головы на кольях. Цыклер, Пушкин, предок поэта. Петр недоволен приемом в Риге, впоследствии это станет одной из причин войны со шведами. Теперь он у курляндского герцога, тут другое дело, тут его чествуют, как должно, как великого царя. … Вставлял стекла в рамы, обкусывал алмазом, провозился до темноты, луна вставала, огромная, желтая. Электричка промчалась многовагонным, железным вихрем, кидая отсветы на траву. Лирично. Состояние сердца, несовместимое с моим революционным достоинством. Не исполнятся мои высокие начертания, неизвестность зароет их в мрачную тучу свою. Блаженный, единственный проснувшийся из всего, что ни есть в мире, плетется, шатаясь, как пьяный, по своей одинокой дороге, бормочет что-то бессмысленное себе под нос. Очумелый, нищий, голый. Никто его не поймет, никто ему не поможет. … Петр в Пруссии, одарен янтарем, доволен. … Слепая, ее бред, везде видятся ей свинорезы. «Вот только что прошел!» говорит, сидя на кровати. «Не верите? Вы бы видели его лицо! Такой страшный! Не понимаю, почему вы его не видите. Сейчас он опять придет». Уронила на грудь седую, как изморозь, старую, девяностолетнюю голову. Несчастная, слепая, сумасшедшая старуха. Починил раму, вставил стекло, луна.
1 сентября. 20 лет со дня нашей свадьбы. В Вырицу в церковь как семь лет назад. Облачно. На ней китайское платье брусничного цвета. Подходим, звон колокола, удары редкие, звучные. За церковной оградой лавка, зашли купить свечей и монастырского меда. Пока она покупала, я вышел из лавки и увидел, как из церкви вынесли черный гроб; впереди девушка несла, держа обеими руками, большой деревянный крест; за ней траурное шествие с гробом под пенье сопровождавшего священника и колокольный звон. За ворота к черной машине. Я подумал: как хорошо, что Лариса в лавке и не видит, только б не вышла, надо как-то ее задержать. Вернулся в лавку, она занята рассматриванием меда в банках, спиной к окну. В окно я увидел, что все уже погрузились в траурную машину, вот – отъехала. Вошли в церковь, темно, никого, мы одни. Лариса молилась у иконы Божьей матери с младенцем Иисусом. У Богоматери темное, закопченное лицо. Похоже на старую фотографию моей матери, юной, хрупкой. Мне три года. Потом в часовню, где гробница Серафима Вырицкого; Лариса молилась, встав на колени перед гробницей. Снаружи около часовни под навесом свечи горят, воткнутые в песок. Мы тоже свои свечки поставили, рядышком; они быстро сгорали, ветер раздувал пламя, они своим пламенем то соприкасались, то отклонялись и горели отдельно сами по себе. Вот так и мы сгорим. У вокзала купили бутылку чилийского вина. Устроим пир. Лидия Андреевна сидела с нами за столом, седая, слепая, тощая, кожа да кости, полумертвец. Семь лет назад за этим же столом была совершенно здоровая, зрячая, веселая, остроумная, шутила. Где все это? Ужасная перемена. Заклеил башмак. Две бутылки пива. После обеда сидел на стуле в саду, дремля. Солнце садится, закатное марево. Лариса срезает садовыми ножницами старые стебли малинника, сухой шорох. Облачно, ветер. … Петр в Амстердаме, каждый день его осаждают несметные толпы любопытных – посмотреть на московского царя. Петр в гневе, прячется от толп, высокий, усики, голова трясется. Строит корабли. … Мглисто, тучи, дождь. Не выспались. Слепая всю ночь колобродила. Вечером на кухне перебирали бруснику. Три старухи за стеной горланили песни, празднуют свое столетие.
Петр в Амстердаме строит корабль, рубит топором, несет бревно на плече, зовется плотник Петр Михайлов. Смотрит морские сражения на заливе, потешные, в его честь. Свидание с Вильгельмом Оранским в Утрехте. … Дождь, беспрерывно, вторые сутки, потоп, сад залит. Это слова вод многих с неба льются, ливнем с туч, чудеса, цветки крови. Красные кровяные шарики, поющие, танцующие и рисующие. … Петр в Гааге, в гостинице «Старый Дулен», заполночь, носится из комнаты в комнату по всей гостинице, выбирая, где спать. В каморке на полу на медвежьей шкуре спит гостиничный слуга. Петр кричит на него в яростном исступлении: «Вставай! Вставай! Пошел вон!» Слуга, разбуженный криком и толчками, в ужасе убегает. Петр ложится на его место, на теплую, согретую телом слуги, медвежью шкуру, и, успокоенный, засыпает. Крепко спит до утра. … Дождь четвертые сутки. … Петр в Амстердаме, построил собственноручно фрегат и спустил на воду. Разочарован. Поедет доучиваться в Англию. Вильгельм Третий, английский король, подарил ему превосходную яхту. … Дождь все хлещет. Носа не высунуть. Сидим взаперти под замком бури. Ярость и шум вод многих. Гнев Божий за грехи наши. Возмездье. Маяки смыты. Колосс Родосский рухнул в море. Тринадцатый апостол. «На каторгу захотели?» спросили его в редакции. «И как вы можете соединять лирику и большую грубость?». Делаю из досок и железа щиты на окна. Боимся, стекла не выдержат ударов воды и ветра. … Петр в Англии, живет в Лондоне в двухэтажном домике из четырех комнат, спит в одной комнате с четырьмя своими приближенными, воздух тяжелый, проветривают, раскрыв окна. Посещение английского короля Вильгельма. Когда король сел на стул перед Петром, на него в ярости бросилась обезьяна Петра, его любимица, купленная им в Голландии. Вильгельм заказал сделать портрет Петра ученику Рембрандта. Петру 25 лет, лицо в конвульсиях, дергается глаз, ужасно на него смотреть. Высокий, стремительный, тяжеловатая походка.
В городе. Жаркий день, ветер, застолье. Дожди, один. Воспоминания Менделеевой, последние дни Блока. В приступе бешенства разбил кочергой бюст Аполлона на шкафу у себя в комнате. Разбив вдребезги, успокоился. «Я только хотел посмотреть, на сколько кусков расколется эта мерзская рожа». Из города, куда глаза глядят, вагон полный, ржаво-золотое, проносится за окном, дует, страх простуды. Психея, вздохи, шелест, и звуков и смятенья полн. Поэту поется, жалобный ветер, явил нам новы тайны. Скоро прощаться с дачей. Сезон кончается. Щиты на окнах, от воров. Река, дикий край, змеиный извив, даль в тумане, сфумато, лес стеной с двух сторон. Хладно, странно. Читал до полуночи, Бекетова, тетка, о Блоке, детство-юность. Клубы черного дыма из-за забора с соседнего участка. Ведьма жжет что-то. Видел вечером, седые космы, в резиновых сапогах. День хрустальный, лучи сил, стол в саду, железо юношей, Велемир, парус времени, бело-черный. Блок: «Я ведь тоже косноязычный». Вторую неделю я здесь один. Сколько бы я мог так вот прожить, Робинзоном? Староват, Азорские острова, годы-чайки. Продолжим бежать по строчкам воды и ветра. … Петр в Лондоне, царь-плотник, московский дикарь, два брадобрея, послал в Москву брить бороды. … В саду за столом. Бабочка села на страницу, я пишу, а она спит рядом, сложив крылья. Ей снится Чжуан-цзы. Вечером – в лес. Набрал сыроежек. Обратно, дорога, мощь заката, пылающий шар. Бронзовый звон над горизонтом. Ночью мышь в углу, скребется, мерзавка. Не уснуть, нервы.
Ван Вэй. Заоблачный уровень. Запрет перу писать ниже той верховной ноты. А тусклые строчилы терзают бумагу, брызжа слюной неукротимой мании. Облеванные словоизвержениями страницы. Нашествие неистощимых авторов. Апокалипсис литературы. В черном небе молний поступь. Сад потемнел, тьмой поволокоста. Звук, знак, узор. Усатый сом смысла в омуте, сам с усам, зачем он там прячется, поющий, бас, артист, Шаляпин? Ключ отрадный, корень мирового звука. Вечером гулял у Оредежа, осенние виды, тучи, черная рябь, три лодки на цепях, то расходятся, то опять сходятся носами к одному железному столбу. Центр притяжения, ось дао. Читал до полуночи. Петр покинул Англию. Дом, в котором жил Петр и его компания 21 человек, оставлен в ужасном виде, все переломано, изувечено, искалечено, разрушено, и дом, и двор. Все испоганено. Адмирал Бенбоу в ужасе, не хочет возвращаться в такое жилище, требует возмещения убытков. Анненский о Блоке: «Надменный мертвец». Не поняли, что – маска. Застенчивость, необщительность, замкнутость, нелюдимость. Боялся людей, боялся ходить в гимназию. Статный, прямая спина, в осанке что-то даже не кавалерийское, а – горское, черкесское. Что-то байроническое. Каменное лицо, нет жестов, голос глухой, надтреснутый. Читал свою «Незнакомку» в доме на Галерной, глаза, полные слез. Мглисто. Дрозды, их полет, обрывистый, трепетный, в темном небе. Еще тепло. Еще вижу и слышу. Еще не вернулся в лоно Великой Матери, сын праха. Светятся золотые точки форм, вот они всюду, то там, то тут, алмазные зерна, из них вырастет кристалл Нового Дня. Твой алмазный венец, Водолей! Слышу, слышу над моей головой трепет и шелест твоих широких крыльев! Это Батюшков, безумная душа, вращает урну хладную, валя шумящий дождь, седой туман и мраки. Эти незримые семена форм везде, лучи силы; ты, Водолей, рассеял их в мирах своей высокой дланью. Тень твоего крыла взрастит мощь, удар молнии. Уже отточен серп для твоего урожая. Собрал сливы. Пошел в лес, пусто, холодный закат. Заря, заратустрь, сеятель очей, еще один птенец из твоего гнезда, белый ворон. Оредеж, ветер, золотые колосья блеска. Сила солнца размазывается, бесформенность. Черный плен ночей. Узнал траурную весть: 1 сентября умерла Нина ( 56 лет), во сне. Так вот почему тот знак мне 1 сентября, когда мы были в Вырицкой церкви!
В городе. Дождь, хандра. Давид Бурлюк: «Искусство вещь спорная, условная и жестокая». Каменский: «Поэзия – это праздник бракосочетания слов». Для себя я единица, для улья я – нуль. Поэт состоит из поэтов. Собрались в гости. Сестра, ее зов. Елена, ахейские мужи… Поезда не ходят. На автобус. От Красного Села пешком, мимо озер, день переменчивый, ну и характер у него, то дождь, то солнце. Осень, листья, Лариса, ее черная толстая куртка на молнии. Улица Нагорная, так, значит, лезть на гору. У сестры строительство, сад, сливы, яблоки. Пили водку. Возвращались домой в темноте. Пьяновато, тоску притупить, это жало черных дней нашего возраста. Всё, занавес, дитя, прощай. Ржавь, явь, сентябрьская падаль – червям; пора, пора, частичка бытия, дни-перышки, отлетался, оттрепыхался; числа стучатся в ночное стекло. Я не разгадчик их вещих знаков. Такой уж настрой у этой скрипки. Месяц – алфавит из тридцати букв-звуков. Лунный алфавит: у каждого дня свой звук и своя буква. Каждый месяц музыка лунного алфавита повторяется. В 2036 году Земля возможно столкнется с громадным метеоритом, и все живое на Земле погибнет. Поздно созрел, поздний фрукт, зимнее яблоко. Человек-луч, иголка, затерянная средь неведомых равнин, острие устремления, не туда, куда все смотрят. А куда? Ведь и ты, как все – вода. Еду, дождь, муть, осенний лес, мысли, рукопись. Что горевать, та страница перевернута.
Октябрь уж наступил. Не топят, холод, хаос, ахейцы проявляют цепкость. Душа искусства – игра. Искусство – целесообразность без цели. Канта наголову бьет. Нервы, сердце, крушение, пустота; хожу как мертвец, руки опущены, ничего не делается, все висит в воздухе. Буран, Есенин, машина образов; на листах писал разные слова-образы, разбрасывал по полу как попало, подбрасывал над собой случайно выхваченные листы, ловил и складывал вместе, иногда получались очень яркие образы и даже фразы. Песня звериных прав. За песню душа отдана. Черный шелковый шарф с красными маками на концах – подарок Исидоры Дункан. Чернозубый ангел. Не чистил зубы. Набережная Макарова, Вечер Голявкина, вдова, стол. Петр Кожевников в раздевалке, мимолетно: привет Ржевке. Салон красоты. Две девки, в брючках, курят. Нервная, истерика. Проводил до поликлиники. Пруд, мостик, утки, студеный денек, ржавь каштанов. На Фонтанку. Татарская фамилия. Шах и мат. «Тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять. Без тайны нет стихов». Капелла, концерт Гаврилина. Через дворики, Шведский переулок, Малая Конюшенная, Казанский, фонари-тюльпаны, Гоголь. Темно. Толпа в метро у канала Грибоедова. Роден, статуя Бальзака, уродство, травля в газетах, слава. Рильке: «Каждый гений ужасает свою эпоху». А.Зверев, переводчик, о Набокове. Селенджер, поиск подлинного, долгое молчание. Писать или не писать, вот в чем вопрос. Ветер, танец листьев. Алмазы в желчном пузыре. Еремин, Хромов, Чертков. Голявкин, юбилей, бывший кинотеатр «Рекорд». Петр Кожевников на сцене. Фильм о Голявкине. Дождь, мокрый асфальт. Балтийский вокзал. Исайя Берлин, «Еж и лиса». Лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь. Пошлость победила меня – и там, и здесь. Кровь шумит у меня, как у всех, кто один на один с темнотою. Адмони. Выставка в Манеже, художник Ю.Медведев, групповой портрет: Алексеев, Чернышев, Лебедев-Серб, Тропников, Степанов, я. Перед нами лежит голая бабища с толстыми ляжками (муза), пустые бутылки из-под водки. Я в синем, с глазами морской птицы, буревестник. Пешком до Мариинки, осень, сизо, клены. Шекспир: «Я разрешаю тебе играть до Судного дня». «Я огонь и воздух, прочие стихии отдаю низшей природе». «Его очарование было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жило». «Антоний и Клеопатра». А.Найман: «Ахматова ценила в стихах – тайну и песню – больше, чем, отзывавшуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности. «В этих стихах есть тайна. В этих стихах есть песня. Стихотворение – нарушение сущего, преступление. А если нет, то нет и поэзии. Поэт – существо, столь же прямоходящее, что и прочие люди, но его ось ориентирована под углом к осям прочих, и ось его мироздания, пространственно совпадающего с общим, – под углом к общим, и слова – те же, что у всех, – под углом ко всем… Поэт всегда прав. Поэт всегда поэт, а не только когда пишет стихи, потому что его ось всегда под углом ко всему. Поэтому он всегда прав. Его нельзя судить общим судом, общей прямой осью»». С Чернышевым, крейсер «Аврора», совет морских ветеранов. Трап в медных ребрышках, пушки, трубы, серо-стальная Нева. Константин Иванов, художник, мастерская, вид на Неву. Вечером, Васильевский, 17 линия, юбилей Гарнина. Чернышев, Тропников, Лебедев-Серб, К.Иванов, Бесперстов. Том Клюева (Гарнин составитель). Я, тост, клюевский: «Куда ты в глиняном сосуде несешь зарю апрельских роз?». Обратный путь, звуки. У Андрея Белого «Глоссалия». Но это не то. «Поэт и война». 80-летие Голявкина. Вдова в черном; длинный, белый шарф, обмотанный на шее. Обратно мимо ТЮЗа через сад к метро Пушкинская. Черно, голо, фонари, октябрь, листья на земле. Шел понурый, в тоске, в глубоком унынии, свесив голову и уронив руки. Крах. Катастрофа. Чудес не бывает. Кто мои толпе расскажет думы? Чумы-кучумы, угрюмо мне в Каракумах. Оборвать все нити, ничего не жду от кремнистого пути. Финита ля комедия.
Стою, пруд, первый ледок, низкое солнце на закате, золотой столб, усталость. Перу старинной нет охоты марать летучие листы. Сумма слова. Моим единственным читателем, для которого я писал, была та сосна на голом утесе, на севере диком. Я был писателем и писал только для нее. Нес к ней свои книги: она прочитает, она оценит. В шуме ее ветвей я слышал суровый суд правды. Теперь у меня этого читателя нет. Вечером – снег. «Покровские ворота». Власов, тяжелоатлет. Хожу по следам силы. Впитываю мощь. Сжимаюсь в точку. Топчу соль, припорошенные листья. У ТЮЗа оранжевые куртки строят зимний каток, настилают на площадке что-то блестящее. Том, изданный в Нальчике, в Москву на выставку. Спускался по лестнице, а шапки-то нет. Забыл в кресле у секретарши. К метро, фонари, мрак. 30-летие нашей встречи. Бродил по сырому снегу в парке. Жестокость фраз; ясно, как репа. На этой планете и не то бывает. Уменья-хотенья мало. Приходит на помощь Волна, поднимет на гребень и несет. Только держись! И каждый раз не знаешь, когда эта Волна придет, когда накатит. Но ты должен быть готов, подготовлен, твое уменье. Приходит Волна и поднимает это твое жалкое уменье, твое мастерство на жуткую высоту, на титанический гребень, что нельзя и сказать эти смешные слова – «мастерство», «уменье», «форма». Это Нечто не вмещается в словечки. И когда Волна уходит, откатывается, прилив сменяется отливом, то ты опять внизу, на мелкой воде, с твоей человеческой и только человеческой силенкой, и снизу, отсюда, с человечности не можешь и разглядеть тот гребень Силы, на котором был и на котором сделалось то дело. И понять не можешь: как же это сделалось. Говоришь: чудо. Но чудо чудом, а ты всегда будь готов, всегда во всеоружии, всегда мастер!
Отшельничество, не отзываться. Труд понимания и труд писания. Певучесть. Поют, плывя по течению привычек, навыков, навьюченные, окованные броней борта. Как называешь вещи, какие у тебя знаки вещей? Чистый порядок, союз волшебный, мыслить молчанием между звучаниями, пути в Незнаемое. Взлететь орлом, вещий клекот, за гранью дней. Ледовые поля скольжения. То ум, то неум, то черный, то белый, то молния седой интуиции. Или – или. Око ворона. Каменеющий крик, Кьеркегор. Корень перемен, буря новшеств. Напор, накал. Мостика через эту пропасть нет. Красное Село, кладбище, могила в снегу, желтые цветы, крупа. Зажженные свечи. Черный гранит плиты, фотографии отца и матери. Обратно на машине, слякоть, сырой снег, моросит. Галерея мгновений. Смотри надписи. Понедельник. Переулок Крылова, кафе, писаки и мазилы, речи, коньяк, шампанское, фотографировались. Тусклость. Письмена воды и ветра, 800 страниц, отнес в Публичку, в отдел рукописей. Ноябрь этот, риторические вопросы к самому себе. Магниты – вот и притягивают. Они из центра галактики, той, что мне снится, не Марфа, а – Мария. Об Аксакове кто-то из современников: «Он пишет так, как будто не прочитал ни одной книги». Капелька на оконном стекле, замерла, дрожит, чего-то ждет от меня. Слова ждет? Ласкового словечка? Любви, нежности? Чтобы я назвал ее жемчужинкой?.. Другие дни, другие сны. Точка взрыва, центр, из этого центра рост, расширение, мир форм. И обратный путь – в центр, в точку. Смотри в этот центр и будь им. Два пути письма. Темно, дождь. О знаменитых писателях, ненормальность, странные поступки, безумные выходки, нарушение психики, непредсказуемость, сверхчувствительность. Медуза с алмазным сердцем. Горизонталь и вертикаль, крест, ты в центре этого креста. У Гете: ткацкий станок, уток и основа. Нет исключения без правил. Платон еще пишет свои «Законы». Позвонил Алексеев, утешал: «Не грусти. Что ты грустишь. Ты – писец. Ты написал свой папирус. Теперь можешь жить спокойно и копить себе на похороны. Ты свое дело сделал. Что тебе еще? У тебя в жизни был твой фараон. И ты испытывал подъем, когда писал. Неужели тебе этого мало?».
Среда. Туман, седое утро. Проводил до поликлиники. В баню, книги. Гулял в парке, грустя. Мрак, огни. Альфред Шнитке, неисчерпаемые возможности, смерть остановила. Собор в Шпрее, романский, имперский. Скоморох, язык на версту, и поет, и рисует. Играет на кобзе, искорки чудес-любес. Особый вид рыжих муравьев с прожорливыми челюстями. Весточка-веточка, нерасшифрованные сведения. Слепая не дает спать, сегодня ночью опять кричала, в ужасе. Бред, галлюцинации: будто бы она на какой-то улице, лежит на трамвайных рельсах, зовет на помощь, а никто не откликается. Под ней река бурлит, люди идут мимо. Несчастная старуха. Прибежали, подняли с пола; скелет, обтянутый кожей, говорит: «Я же твоя мать!». Сон под утро: будто бы пытаюсь писать, но у меня не получается, вместо слов кляксы, расплываются, заливают лист.
Встал в шесть, с сестрой в ГБР. Серый рассвет, тучи, дождь моросит, мокрые плиты. Брел понурый, безразличие. Эрмитаж, бродил в залах, картины, картины, и на третьем этаже у моего любимого Ван Гога. Лоджии Рафаэля, мутные зеркала, я в них, горблюсь, сутулый, мрачный. Невский, толпы, дождь, муть, такая серятина. Домой еле дотащился. Ох, этот год! Белов, Африканыч. Маяковский называл: мужиковствующие. Туман, женщина с седыми волосами. Пустырь, фонари, горящие окна. Вяземский: «Таланта нет во мне излишка, не корчу важного лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца». Мрачно, хладно, чайки в призрачном, сером небе, крик воронья на рассвете, сквозь сон, сквозь бред, сквозь мозг. Вставать, голоса, ужас дня, дома, сапоги, гудки, фары, стук каблуков, презедент отвечает на вопросы, взор светел, газопровод, бури в Европе, взрыв поезда «Москва – Петербург», Радищев, рельсы, лоб в лоб. Вот я стою, стена, крышка люка, за углом магазин, где мы покупаем продукты. Зачем я здесь, кого жду? Не забавно, не ново, журчание, сигнализация сработала у какой-то машины на каком-то дворе, я тут один, невидимый, проходят мимо, не замечают, рассвет, ветер… Дни Блока. «Забавно жить! Забавно знать, что под луной ничто не ново! Что мертвому дано рождать бушующее жизнью слово!». Зоркость. Есть зрящие колбочки в глазу и – формы, формы, формы, семафоры ночных дорог. Познать человека, вот он, из пупка бьют молнии, чакры. Вольф Мессинг, ловец душ, гипнотизер, чары летучей мыши, пленяет, волшебное видение, виртуозный полет бесшумных, черных платков. Ком дней, голая земля, хожу по гробам, бесснежный ужас. Город, попался в сети, голова два уха. Сон о водолазах, их работа, возня в мрачных безднах, влезть в их шкуру, наша «Макаровка», плавподготовка в учебном бассейне в Гавани на Васильевском острове, спускались под воду в водолазных костюмах. Пролез через торпедный аппарат, плохо помню… Не читается. Вышивать по готовой канве, сделанной жаром чужих рук. Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир ужасен. Мечников, депрессия, привил себе то ли тиф, то ли чуму, самоубийство под видом научного эксперимента. Умерла жена, женился второй раз на своей ученице 15 лет, жил в Париже, Нобелевская премия за открытие иммунитета. Виктория Иванова, певица, ангельский голос, Аве Мария, итальянская песня из фильма Феллини «Дорога», «сеньор, купите фиалки». Художник Виктор Мельников, сын того Мельникова, авангардного архитектора, писал на картинах сам свет, изнутри, за всю жизнь продал только одну картину, на его холстах кажется, словно ничего не нарисовано. Дневники Байрона, против писателей и писательства, за людей действия. Бессонница, духота, никак не рассветет, звуки с улицы, воронье раскаркалось, в верхней квартире надо мной скрип шагов, шум льющейся воды, открыли кран. Ужасно, ужасно это всё – и звуки, и этот зимний рассвет, и жизнь. В феврале – 63. Зачем? Для чего дальше? Дорога дальняя, скучная, ненужная.
О Солженицыне, как он писал «Архипелаг ГУЛАГ». Ул.Пушкинская, пили водку. Томас Манн: «Художников много, а вот мастеров мало». От метро, ореолы. Снег, чернота кустов. Южное кладбище, снег, метель, кресты, сухие стебли. Долго ждали автобуса, замерзли. Телепередача, Анненский: «Поэт – это не тот, кто что-то высказывает, а тот, кто намекает о том, о чем сказать невозможно». Манускрипт Войнича, самая загадочная книга мира, написана на непонятном языке, с непонятными иллюстрациями, куплена Войничем у итальянских иезуитов. Написана якобы в 12 веке Роджером Бэконом. В 16 веке ее купил у какого-то торговца император Рудольф Второй за 700 дукатов. До сих пор нерасшифрована. Мороз, солнце, бетховенский день, героический, глухой. Зеркало книги – что в нем отражается? Миражи, гаражи, этажи… Чистое зеркальце, затуманенное дыханием девяти сестер. Муза, резвая подруга… Тревога к ночи, пол скрипучий, человечество-электричество. Дом писателя, юбилей, речи. Тоска. Ушел. Что со мной, сам не знаю.
Встреча у Финляндского вокзала. К. Иванов, художник, у него тут мастерская. Пейзажи, храмы, святые, в нежных тонах. У него уже накрыт стол. Фотографировались. Глаголы об искусстве. От метро пешком. Опять тоска. Необитаемый остров. Дожить оставшийся хвостик. Бессонная ночь. Ходили в аптеку. Мороз, метель. Подстилки для Л.А. ( третий год лежит, нужно много этих специальных медицинских простынь). Ждал на улице, за электробудкой. Мрак, огни на проспекте, метель. Что-то гудит-звенит в этой метели. Провод под током? Ось Орфея? Встреча на Московском вокзале. Шампанское. За книгу. У ларька, перед площадью. Невский украшен, огоньки-гирлянды, толпа, месиво. Искорка радости. Пел и плясал. «И изглаголаша Соломон три тысящи притчей, и быша песни его пять тысящ».
Перелом года. Дню прибавляться. Шепот чтеца. В трубу улетим, со вспышкой в конце туннеля. «Совпадение душевных устремлений писателя и объекта изображения, «натуры», среды, природной или человеческой, что живет как будто в том же напряжении, с теми же устремлениями, что и он». Рожденные с дудкой во рту. С косноязычной косточкой, щучьей... Книга чудовищностей. «Тем, кто думает о том, что вверху, о том, что внизу, о том, что было до и о том, что будет после, лучше было бы не родиться». Талмуд. Метель, ее письмена. Пишет только о том, что ничем не подтверждается, чему нет аналогов. Одноразовые шприцы с кровью. Это главное, то, что Некто мне показал и чему научил. Этот Некто – Водолей, его седые, буранные крылья шумят над моей головой. Вечером в Александро-Невскую лавру. Монашки у ворот. Полный зал. «Филигранность фраз у Бунина». Купил елку. Чувствую себя сиротой. Невский, новогодний базар в Екатерининском саду. Конец этого черного года. Метель, город по уши в снегу, не убирают, только один Невский расчищен. «Духовидец», оборвано. Звуки. Звуковые узоры на окне тишины. В аптеку, выстрелы, фейерверк. На почту, книга В., о чеченской войне. Слои силы. Левиафан, ход его скрыт в бездне, а на воде виден только его светящийся след. На столе три книги. О Шиллере, о славе, о любви.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

