Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
Вниманию читателей предлагается очередная, быть может, самая
ностальгичная, глава большого романа пока-фельетона.
Поэт, от лица которого ведется повествование, собирается
в необычное путешествие и вспоминает ушедшую молодость, когда
одиночество сменялось обществом верных и не особенно друзей и
подруг.
Идеал и тривиальность — полярны они
или, быть может, тождественны? Интервью
с автором отвечает на подобные вопросы.
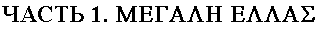 |
 |
— Ты счастливчик,— заявляли они мне в три голоса настойчиво и
почти злобно,— у тебя есть внешность, талант, свобода, из дому
полученное воспитание. Стоит тебе захотеть чего-то, и ты это тут
же получаешь. Стоит тебе просто подумать о чем-то хорошем, и оно
тут же приходит к тебе, даже без твоего желания. Нам нужно жить
по-другому, трудно и осмотрительно. Бережливо, строя по кирпичику
иллюзию благополучия.
Мне было горько.
— Послушайте, мои дорогие,— ответил я им, а, может, и не отвечал
вовсе,— когда умрут ваши родители, когда сотню раз вам покажется,
что вы сами уже умерли, когда вам захочется взорвать ваше по кирпичику
построенное благополучие, тогда мы и поговорим о счастье.
Я почти с рождения жил у бабушки, родители казались мне существами
далекими и совершенными, почти небожителями. Я смущался, когда
мама расспрашивала меня о моих делах. Она отдала меня в школу
на полгода раньше срока, поводив сначала по каким-то тетенькам,
которые подсовывали мне разноцветные квадраты и задавали дурацкие
вопросы. Забежав к нам с бабушкой однажды днем, мама увидела,
как я корпею над превращением теперь обесцвеченных квадратов в
цветные.
— Чему его там учат, это же издевательство над мировым разумом,—
воскликнула мама и тут же побежала переводить меня из первого
класса во второй.
Тетенек с квадратами, а также с кругами, разделенными на секторы,
стало еще больше, но меня все же перевели во второй класс, снабдив
новыми учебниками, где новые квадраты занимали уже порой целые
страницы. Мама махнула рукой на официальную сторону моего образования,
частенько позволяя мне прогуливать школу, если светский этикет
или простое удобство требовали моего присутствия на каких-нибудь
глубоко вечерних аполлонических действах, и я не успевал выспаться
до утра.
Родители вели жизнь элегантную и великолепную, благоухающую духами
и срезанными розами, между концертными залами, вернисажами и дорогими
ресторанами порхающую. Они перезжали с квартиры на квартиру, возя
за собой пианино, сотню книг, три чемодана нарядов и отцовские
художественные принадлежности. Остальной скарб при каждом переезде
раздаривался или попросту выбрасывался. Отец входил в моду, выставлялся
все чаще и успешнее. Родительские квартиры были все более дорогими
и элегантными, одежды тоже. Но почему мама все чаще приходила
к бабушке и подолгу сидела у нее, а иногда оставалась и ночевать?
Почему отца я все чаще видел с красным, злым лицом, а его элегантные
костюмы были измяты и испачканы? До меня долетали лишь обрывки
разговоров.
— Разве это искусство? — жаловалась мама, и я понял, что речь
идет об отце,— но что делать, он имеет успех, он перестал прислушиваться
к моим мнениям.
— Не предупреждала ли я тебя,— вздыхала в ответ бабушка,— крестьянин
есть крестьянин, его не сделать маркизом никакими усилиями, а
если он намалевал на своей избе петуха, приглянувшегося соседям,
и может теперь кормиться рисованием петухов на чужих избах, а
не обработкой своего поля, то это не значит, что он избавился
от повадок крестьянина.
Я никогда не видел, чтобы отец рисовал петухов, и не особенно
понимал, что бабушка имеет в виду.
— Концертное исполнительство — то же актерство, фиглярство,— следовало
новое печальное признание, и, значит, речь шла уже о самой маме,—
чем я становлюсь старше, тем труднее мне играть в концертах то,
что не соответствует моим настроениям. Что мне делать, заняться
композицией? Но я не слышу музыки ни внутри себя, ни вокруг.
Я не помню, что отвечала бабушка, но обе они после таких разговоров
долго сидели в напряженном молчании и сокрушенно оглядывались
на меня.
— К сожалению, мальчик весь в отца, никаких способностей к музыке,
да и к другому тоже, и эта впадина на переносице, и волосы слишком
светлые,— слышал я иногда то ли мамин, то ли бабушкин шепот, и
не было мира над моей аккуратно стриженой головой.
Но после тайных всплесков неудовлетворенности продолжалась обычная
блестящая жизнь, я забывал об услышанном и полагал, что в мире
больше счастья, чем несчастья. Бабушка иногда брала меня в концерты,
и я, сидя неизменно во втором ряду, выглядывал между взрослых
спин первого ряда, пытаясь рассмотреть сцену. Отец редко появлялся
на маминых концертах, объясняя:
— Это рутина, будничная работа. Я же не требую зрителей, когда
пишу.
Бабушка, гордая своим статусом превзойденной учительницы, торжественно
восседала в филармоническом кресле, облаченная в черный, отороченный
красноватыми кантами, костюм, с выглядывающим из-под него белоснежным
жабо. «Не терплю стриженых старух»,— ворчала бабушка, которая
во времена ее молодости была роковой красавицей-брюнеткой и носила
модную тогда короткую прическу, уложенную волной, а войдя в степенный
возраст, отрастила длинные волосы и заворачивала их в большой
узел на затылке. Нетрудно догадаться, что я тоже недолюбливал
стриженых старух и был счастлив, что у меня — настоящая, правильная
классическая бабушка, с настоящим, правильным поседевшим узлом
на затылке, которая сидит сейчас гордо и степенно в бархатном
кресле и удовлетворенно взирает на сцену поверх классического,
с горбинкой, носа.
На сцене же мама, ставшая еще более прекрасной и недоступной в
длинном концертном платье, соло или с оркестром укрощала белый
рояль, куда более крупный, чем бабушкин черный, или богато инкрустированный
клавесин, который притаскивали откуда-то для барочных концертов.
Я благополучно засыпал под Шумана и Гайдна, прятался под креслом
от Бетховена и Вагнера, болезненно возбуждался от Шопена и тихо
наслаждался Моцартом. Но уже тогда, сквозь детскую филармоническую
полудрему, я чувствовал противоречивость музыки, заключающуюся
в невозможности удержать в уме все музыкальное произведение целиком.
Музыка предполагает движение — так можно объяснить взрослыми словами
мои тогдашние чувства, в ней не существует точки, в ней есть только
линии, у хороших композиторов — плавно изогнутые, у плохих — нелепо
изломанные, по которым приходится брести или нестись галопом слушателю,
погоняемому дирижерской палочкой. Картину можно рассматривать
в любого ракурсе, с любого расстояния, в любой последовательности,
бегло или внимательно, присматриваясь к деталям, или воспринимая
ее как неделимое целое. В музыке — другое. Точка-нота — на этой
линии — ничто. Но если слушатель, в силу природной распущенности,
привык за каждой точкой видеть бесконечность, тогда любая музыкальная
пьеса превращается для него в бесконечность бесконечностей и,
значит, размазывается в недоступных пространствах, превращаясь
в ничто. И я уже тогда чувствовал, что не смогу быть музыкантом,
я — внук учительницы музыки и сын профессиональной пианистки,
который, вне всяких сомнений, призван был стать композитором.
И я уже тогда понимал одномерность музыки в сравнении с двумерностью
живописи и многомерностью литературы. Трехмерных искусств не бывает
— что-то в таком роде заключил я для себя в возрасте лет семи,
имея лишь смутные представления о значении слова «искусство» и
не имея никакого понятия об определении размерности. Но тогда
меня учили тому, что музыка — субстанция эфирно-божественная и
мне надо, поэтому, без конца проигрывать скучные упражнения, ибо
без этого невозможно стать лаврами увенчанным полубогом, а живопись
ассоциировалась у мамы с бабушкой не с Леонардо или, хотя бы,
Ренуаром, время которых давно прошло, а с отцовскими химерическими
петухами, и была поэтому искусством низким. К литературе у мамы
с бабушкой было отношение уважительное, но без восторгов, а отец
читал одни детективы.
— Mальчику будет трудно избежать богемы, пусть присматривается,—
грустно сказала мама, придя за мной однажды, чтобы взять на очередной
отцовский вернисаж, поскольку бабушка отказывалась сопровождать
меня на эти, как она их именовала, «шабаши».
 |
Когда я услышал это, я стал присматриваться и запоминать все,
что видел, с удвоенным вниманием. Гвоздем выставки, проходившей
вскоре после моего седьмого дня рождения, была огромная картина
под названием «Black and white».
— Уберите ребенка,— завизжала разукрашенная тетенька, которая
мне показалась безнадежно старой и которую все звали Лили, когда
я приблизился к картине, собравшей толпу зрителей.
— Что вы, милочка,— возражал сладенький старикан в светло-сером
костюмчике,— это же искусство, вы и Венеру Милосскую прикажете
запрятать подальше?
Меня оставили в покое, и я продолжал рассматривать полотно. Две
ню в полный рост стояли в полоборота друг к другу и держались
за руки, отведя другие в стороны. Одна ню была иссиня черна, но
с европейским лицом, ярко-желтыми прямыми волосами и подчеркнуто
голубыми глазами. Другая была, понятно, снежно белого цвета, с
африканскими чертами и африканской же шапкой волос, почему-то
ярко-розовых. Тела были нарисованы, как понял я, искушенный к
тому времени в вырезании из бумаги всяких детских штучек, по одному
шаблону, то есть картина была симметрична. Почвы под ногами у
ню не наблюдалось и они вроде бы парили в воздухе, но воздуха
не было тоже: фигуры болтались на фоне, размалеванном в косую
клетку зеленым и коричневым. Для того, видимо, чтобы не сливаться
с этим довольно темным фоном, черная фигура была обведена серебристым
контуром.
— Как это неожиданно, как свежо! — восклицала тетенька, похожая
на Лили, но не Лили.
— Нет, это вполне естественно, милочка,— снисходительно объяснял
ей все тот же старичок,— мир наполнен контрастами, но не только
ими, мир симметричен, но не вполне, и... ах, милочка, мир неизменно
полон голых женских тел,— заключил он поучение, ущипнув милочку
за щечку.
Возле старичка и милочки уже собралась толпа адептов.
— Почему только женских? — раздался чей-то смешок.
— Разумеется, не только женских,— назидательно отвечал старичок,—
но ось мира проходит между двух женских тел, и это наш артифекс
изобразил нам совершенно правильно.
— Но откуда этот фон? — продолжала расспросы милочка, озабоченно
проверяя, не отщипнул ли старичок от щечки основательный слой
грима, которым была отделена милочка от мира с его изобилием голых
тел.
— Природа, милочка, природа: коричневый ствол, зеленая листва;
коричневая почва, зеленая трава, ах, и все чередуется во всех
направлениях, все, короче говоря, разлиновано в клеточку.
— Но в природе много других колеров, особенно в экзотических странах,—
робко заметил кто-то из адептов.
— Достаточно, того, что изображено, зеленый и коричневый — символические
цвета природы,— терпеливо объяснял сладенький эксперт.
Отец не снисходил к подробным толкованиям своих картин, он гордо
расхаживал по залам, сопровождаемый кучкой прихлебателей. Мама
никогда не примешивалась к этой кучке, она держалась в стороне,
снисходительно наблюдая за происходящим большими удлинненными
глазами, которые должны были бы быть черными, но были зелеными,
высокая и прямая, в одном из своих надстоящих над модой облегающих
платьев, которые шила ей по эскизам отца какая-то особая портниха.
Ей не было нужды рассматривать картины, она их знала слишком хорошо,
но мне она позволяла свободно дефилировать по залам, где я видел
и слышал немало интересного.
— Его жена, вон его жена,— шептались возле меня.
— Некрасивая,— отвечал кто-то,— к тому же, кажется, выше его ростом.
— Что вы, тогда и Мона Лиза некрасива,— слышались возражения.
— А вы находите, что Мона Лиза красива?
Я подходил поближе и грозно вглядывался в лица говорящих, пытаясь
понять, кто это осмелился ругать мою красивую маму. Раз они не
разбираются в том, что красиво, а что нет, почему они пришли на
художественную выставку? — не мог понять я.
— Тише, тише, это их сын, он смотрит на нас!
— Похож на мать.
— Нет, похож на отца.
Я одарил спорщиков уничтожающим взглядом и с достоинством удалился.
Но вот к отцу заискивающе обратились, попросив сказать несколько
слов.
— Функции изобразительного искусства переменились,— бодро вещал
отец, обряженный в кремового цвета тройку, встряхивая будто бы
небрежно подстриженной светлой гривой, которой, на самом деле,
он доводил своего куафера до изнеможения, давая тому буквально
по поводу каждого волоска указания, насколько его укоротить,—
для тех целей, которым служило прежде четыре пятых всех живописных
работ, вполне достаточно современной фотографии. Перед живописью,
настоящей живописью, открываются новые горизонты. Художник перестает
быть копировальщиком природы, это неблагодарное занятие, копия
всегда хуже оригинала, учим мы наших детей,— отец кивнул в мою
сторону, взоры зрителей, ставших слушателями, устремились ко мне,
а я не понимал, почему меня вдруг стало много и я — дети, а не
просто мальчик, как прежде, и отнес это на счет того, что раз
других детей на «шабаше» нет, мне придется нести тяжкое бремя
собирательного имени,— художник становится философом, приподымающим
слой за слоем многочисленные завесы, скрывающие смысл мироздания.
Чтобы выявить суть вещи, иной раз приходится ее слегка исказить.
Впрочем, искажением это считают недоброжелатели, я бы назвал упомянутый
процесс корректировкой. Никакая завершенность не состоится без
корректировки. Глаз, чтобы сделать его египетским, нужно, как
следует, обвести.
И папа был уже не просто модным мазилой, а теоретиком современной
живописи. Он и в самом деле сочинил несколько статей, которые
мама правила, страшно издеваясь над стилем и грамматическими ошибками,
и приносила рукописи бабушке, чтобы позабавить ее. Я же не видел
существенного различия между тем, что происходило на «шабашах»,
и тем, что происходило в антрактах и финалах филармонических концертов.
Разговоры, правда, казались мне более непонятными, а значит, возвышенными,
но персонажи, жесты и интонации были весьма похожи, а иногда просто
те же самые. Я думал также, что бабушка слегка несправедлива к
отцу, называя его крестьянином. Он вырос в маленьком городке,
хотя родители его, которых я не помнил, действительно, происходили
из крестьянских семей, и обладал немалой физической силой и почти
благородной внешностью, во всяком случае, вьющиеся вокруг него
в изобилии дамы безоговорочно находили его красавцем. У него были
довольно изящные ладони, крепко подпорченные, правда, красками
и растворителями.
— Картины не пишут в перчатках,— часто при мне повторял отец,
обращаясь к маме,— мне, может быть, тоже хочется, чтобы у тебя
были длинные, как у кинозвезды ногти.
— Да, картины не пишут... — грустно отвечала мама.
Я и в этом видел болезненное противоречие. Искусство не должно
портить руки творца, казалось мне.
Мне было девять лет, когда все переменилось внезапно и жестоко.
Заболела бабушка. Она не могла больше вставать с постели. Есть
немалая надежда на исцеление, но нужна тишина,— говорили доктора,—
полное спокойствие, чистый воздух. У них, у докторов, есть адреса
клиник, санаториев.
— Нет, нет,— сказала мама,— я буду сама заботиться о маме.
— Это безумие! — гремел отец,— есть больницы, санатории, платные
сиделки, наконец. Превращать дом в лазарет, а себя в сестру-монашку!
Это сломает нам жизнь, это будет плохо для сына, для меня, да
и для тебя тоже, а матери твоей это не поможет.
— Плохое и так уже произошло,— тихо отвечала мама,— и как бы мы
себя сейчас ни вели, оно не уйдет, и мы не сможем себя чувствовать
так, как будто ничего не было.
Отец выругался и ушел.
Мама оставила филармонию и театр, продала бабушкину квартирку
и купила домик на краю города, почти в деревне. Она договорилась
в близлежащей музыкальной школе, что ученики будут ходить к ней
на дом.
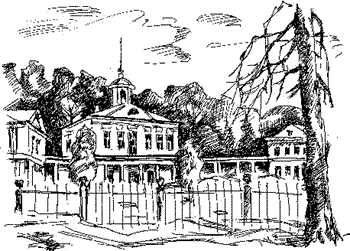 |
Домик был изящным, с итальянскими какими-то арочками, к нему прилагался
довольно большой кусок земли, на котором росли несколько старых
яблонь и вишен, а остающееся свободным пространство моя городская
мама, не имевшая ни малейшего понятия о садоводстве, засадила
случайными цветами, изображения которых на мешочках с семенами
и луковицами ей понравились в магазине. Какие-то из этих цветов
гибли и были безжалостно вырываемы, другие принимались, и вдруг,
когда о них уже совсем успевали забыть за долгую зиму, оживали
с весной, всходили, вырастали и распускались во всем великолепии.
Бабушка, остававшаяся величественной даже в ужасной своей болезни,
лежала без движения в задней комнате, окна которой выходили на
старый парк, постепенно переходящий в настоящий большой лес. Сразу
за нашей оградой начинался довольно крутой, поросший деревьями
склон, который заканчивался маленьким веселым ручейком, чистым
и холодным. Возле ручейка мы с мамой, прогуливаясь, обнаружили
старинную водяную мельницу, прекрасно сохранившуюся, которая почему-то
не значилась в списке городских достопримечательностей. Видимо,
ручеек был когда-то полноводной рекой, решили мы. От мельницы
местность опять взвивалась вверх и переходила в старый окраинный
городской район с невысокими буржуазными, не лишенными эстетики
домами — это было самое близкое к нам жилье. Через ручеек был
проложен горбатый чугунный мостик с ажурными перилами. По этому
мостику к маме прибегали ее ученики, а я, в обратном направлении,
ходил в школу, затерянную среди буржуазных домов.
— Когда-то здесь был дачный поселок,— рассказывала нам мама семилетней
музыкальной ученицы, которую она первое время сопровождала, боясь
отпускать одну,— но произошел пожар, хозяева получили страховку
и разъехались, продав землю крестьянину, отсюда и поле.
За полем, на которое выходило большинство наших окон, опять начинался
изгибающийся дугой парк. Удобренная золой почва оказалась плодородной,
крестьянин выращивал на ней горчицу и кормовую траву, а сам жил
где-то в другом месте. Место, действительно, оказалось очень тихим.
Шум полевых работ не докучал нам, они проводились всего несколько
раз в году и длились недолго.
Дом таил множество загадок. Та самая судьба, из-за деструктивных
причуд которой мир ограничивался для меня теперь домом и его ближайшими
окрестностями, милостиво позволила мне и в этом узком мирке получить
необходимый минимум впечатлений и переживаний.
Дом был куплен по сходной цене у наследника последнего владельца,
который приходился ему, кажется, внучатным племянником. «Дядюшка
был чудаковат»,— проронил он по ходу переговоров. В чем состояла
чудаковатость дядюшки, наследник объяснить не решился, видимо,
боясь, что мы откажемся от покупки. Но мама не намеревалась отказываться.
Кажется, ей были известны какие-то обстоятельства жизни бывших
владельцев дома, но мне она ничего не рассказывала.
Все что, по мнению племянника, имело какую-то ценность, он вывез,
предоставляя нам поступать с остальным, как нам заблагорассудится.
Дом был набит ветхой мебелью: книжными шкафами с выбитыми стеклами,
рваными плетеными креслами, кособокими креслами-качалками, продавленными
канапе, обезноженными стульями и рассохшимися столами всех форм
и размеров. Кое-что маме понравилось, и она вызвала на дом столяра,
чтобы тот привел мебель в порядок. Но нам нужно было как-то уместиться
с собственным скарбом, и многое мы все же выбросили, а кое-что
снесли до лучших времен на чердак. Чердак этот достоин особого
описания. Чего мы только там ни обнаружили погребенным в густой
пыли: фарфоровых кукол-инвалидов, связки пожелтевших от времени
газет и журналов, какие-то неразборчивые рукописи, мольберт и
масляные краски, старые одежды, остатки тонких фарфоровых сервизов,
заботливо переложенные соломой в плетеных сундуках, скатерти бархатные,
скатерти кружевные, корзинки для рукоделья, каминные щипцы. Я
искал граммофон, но его не было.
Были вместо этого несколько книг: история крестовых походов неизвестного
нам прежде автора, напечатанная убористым готическим шрифтом,
со вставными великолепными иллюстрациями, покрытыми папиросной
бумагой; справочник целебных трав; несколько детских книг, чуть
нравоучительных, но милых и тоже прекрасно иллюстрированных, которые,
видимо, уже век не переиздавались. Другие книги, решили мы, стояли
внизу на полках, и племянник, вероятнее всего, вывез их в букинистические
лавки.
А в самом дальнем и невзрачном сундуке, не сундуке даже, а просто
большом грязном ящике, к нашему великому удивлению, обнаружились
среди хлама несколько истинных сокровищ, до которых не добрался
племянник, гнушаясь копаться в пыли: бронзовая скульптурная группка,
на которой мальчик-фавн протягивал обнаженной, готовой убежать
от испуга нимфе гроздь винограда; ортодоксальная икона в золоченой
раме, с золотом же выписанными деталями; серебряный столовый,
чрезвычайно изящный прибор на шесть персон, совершенно полный;
и картинка, маленький женский портрет — очень удачная, как нам
показалось, стилизация под флорентийский ренессанс. Молодая девушка,
изображенная на портрете, была одета в пурпурное платье из кружевного
бархата (как великолепно, как противоречиво,— думал я, девятилетний,—
благородный пурпур пронизан дырами, но дыры эти самых изящных
конфигураций и только подчеркивают благородство), украшенное золотой
тесьмой и расшитое жемчугом. Высокая прелестная прическа была
увита жемчужными бусами и золочеными шнурками. Но самым замечательным
было лицо, изображенное анфас с едва заметным поворотом вправо,
молодое, вдохновенное, уносящее взор с картины во что-то далекое,
неземное и великолепное, чему нет названия, и что нужно уже самому
переносить в свои собственные слова, краски и звуки, чтобы задержать
при себе хотя бы его иллюзию. Подписи на портрете не было.
Я показал картину отцу, который тогда навещал еще меня время от
времени.
— Да, стилизация, наряд попросту скопирован, хотя технически,
может быть, и получше, чем у Полайоло, и лицо интереснее,— сказал
отец, не выказывая никаких эмоций,— картине лет сто-сто двадцать,—
прибавил он, вглядываясь в фактуру краски.
Я сказал ему, что у нас на чердаке нашлись какие-то масляные краски,
он попросил показать их ему. Я принес ящик. Отец с трудом откручивал
от баночек присохшие столетние крышки, вглядывался, внюхивался
в разноцветную массу внутри, растирал в пальцах засохшие частички
и долго потом присматривался к радужной пылью веков покрытым пальцам.
— Написано этими красками,— вынес он вердикт,— лет около ста двадцати
назад, как я и говорил.
— Значит портрет написан здесь, в нашем городе,— не выдержала
мама, предпочитавшая обычно не вступать ни в какие переговоры
с отцом во время его визитов,— такой художник жил в нашем городе,
а мы ничего об этом не знаем!
— Возможно, это был заезжий художник,— излагал свою версию отец,—
приехал к возлюбленной, написал ее портрет, а потом ему дали от
ворот поворот, он и краски с горя забыл.
— Значит, в этом доме жила девушка с портрета и это ее фарфоровые
куклы лежат на чердаке, и все равно это великолепно,— отвечала
мама, уже слегка раздраженно.
Отец попросил унести картину и засохшие краски с собой, краски
— навсегда, а картину — на время, обещая отдать назад. Но он так
и не вернул ее никогда.
— Мы убежали от мира, но мир может пожелать вторгнуться в наши
владения. Придется завести цепного пса,— чуть сокрушенно сказала
мама, когда мы прожили на новом месте около месяца, поскольку
для нее было немыслимым лишить кого-нибудь свободы, хотя бы и
негодную дворнягу.
Некая мамина знакомая по имени Софи, которая принадлежала к особой
породе дамочек, занимающихся неизвестно чем при всех на свете
филармониях и театрах, и которая первое время нам названивала,
сообщила в числе прочих новостей о своем горе. Она имела неосторожность
спустить дипломированную рыжую овчарку-колли с поводка в большом
парке и теперь ей придется куда-то девать будущих беспородных
щенков — детей неизвестного отца. Подозрение падает на черного
дога и афганскую борзую, вертевшихся неподалеку.
— Щенки предполагаются большими? — спросила мама.
— Вероятно,— громко вздохнула в трубке Софи.
Мама сказала, что готова взять на себя заботы об одном из плодов
незаконной страсти. Через месяц Софи радостно доложила:
— К счастью, только три штуки: две девочки и мальчик, похоже,
дог ни при чем.
— Давай мальчика,— вздохнула мама,— как-то неловко сажать на цепь
даму, к тому же дочь благородной матери.
— Мама, поедем заберем его поскорее,— не мог я сдержать восторга.
— Рано, еще рано, терпение, мой мальчик,— неумолимо отвечала мама,
и ожидание было невыносимым.
Наконец, недели через три Софи прикатила к нам, а вслед за ней
из кирпично-красной машины выкатился большой рыже-палевый мохнатый
клубок, из которого выглядывала острая, с черными любопытными
глазами-пуговицами, резвая лисья мордочка.
— Никаких сомнений, афганская борзая,— подтвердила Софи, выпила
свой кофе и больше не появлялась.
— Как же тебя зовут? — допрашивала мама увесистого собачьего младенца,
поймать которого и удерживать теперь на руках стоило ей немалых
усилий.
Младенец похрюкивал, причмокивал и вырывался, стремясь вернуться
ко мне на пол и продолжить игру.
— Твоя мама — собачья баронесса, и ты преисполнен благородства,
но ты — незаконный сын и геральдическая палата отвергает тебя,—
объясняла ему мама,— что же, будешь Публием.
Публий оказался резвым мальчиком с разрушительными наклонностями.
Маме так и не хватило духа посадить его на цепь, сначала под тем
предлогом, что он слишком юн, а после — под тем, что он успел
привыкнуть к дому. Нам удалось приучить его не перемахивать без
позволения через садовую изгородь и не грызть обувь, в остальном
он был предоставлен своим инстинктам. Инстинкт продолжения рода,
радикально извести который маме тоже не хватило духа, гнал Публия
в леса и поля, но мама, не решаясь предоставлять ему полную свободу,
позволяла, между тем, мне уходить с ним в парк и там спускать
с поводка. Публий подпрыгивал, вилял двойной — от двух пород унаследованной
— лохматостью украшенным хвостом, выписывал вокруг меня круги,
восторженно лаял и рылся в прошлогодних листьях. И это значило,
что он молод и силен, жизнь его насыщенна, и он не был бы счастливее,
бегай он по наследственному имению английского лорда, а не по
окраинному публичному парку.
Гордые владельцы ярких спортивных костюмов и чистопородных собак,
превосходно разбирающиеся в собачьем нобилитете, приходили в ужас,
увидев моего резвого, жаждущего любви Публия, и, как видно, тоже
наслышанные о беде Софи, изо всех сил держали за поводки своих
собачьих принцесс, истошно крича мне:
— Мальчик, держи, держи же своего монстра!
Я не мог удержать Публия силой,— он был гораздо больше меня,—
и я злился на снобов, обзывающих монстром моего вполне приятной
наружности пса, не такого тяжеловесного, как его мама, и не такого
до абсурда вытянутого, как предполагаемый папа. Я мог только уговаривать
его оставить в покое недоступную принцессу, он, как ни странно,
подчинялся, но тихонько подвывал от досады.
— Это у вас монстр,— грубил я самым нетерпимым из ревнителей породы,—
а мой Публий преисполнен благородства,— внушительно выговаривал
я, цитируя маму.
Хозяева ругались: «Ах, какой невоспитанный мальчик»,— и обещали
пожаловаться моим родителям. Я отвечал с достоинством:
— Мой отец — первый художник современности, хотите автограф? На
картину к автографу у вас денег все равно не хватит,— и в следующий
раз снобствующий собачий хозяин сам обходил меня стороной.
Зато бабульки, выгуливавшие своих пенсионных болонок, с уважением
спрашивали меня, к какой породе принадлежит мой замечательный
песик.
— Афганская колли,— гордо отвечал я.
— А-а-а,— понимающе тянули бабульки.
От мамы был скрыт тайный смысл моей дважды публичной жизни, как
она именовала прогулки с Публием по публичному парку. Только несколько
приятелей-одноклассников, иногда сопровождавших меня, были посвящены
в то, что я стал теперь единоличным властителем парка, а Публий
— моим придворным псом.
— А вдруг заведутся мыши, рядом — поле,— сказала как-то мама,
но коты не приживались у нас.
Однажды мы завели дымчатую почти персидскую кошечку, доставшуюся
нам от другой дамочки, похожей, как две капли воды, на бывшую
хозяйку Публия. С нас с Публием было взято торжественное обещание
не обижать новую подружку, и мы честно исполняли его. «Тебя зовут
Рене»,— сказала ей мама. Рене смотрела настоящей кошачьей принцессой,
но унаследовала, видимо, от сомнительного своего папаши пагубное
пристрастие к сидению на заборе, и, отличаясь доверчивостью, была
похищена с этого забора неизвестным злоумышленником. Горе было
безмерным, и, когда надежды вернуть пропажу иссякли, я притащил
подаренного кем-то из одноклассников обычного серого с ассиметричными
белыми пятнами котенка.
— Публий у нас уже есть,— обреченно вздохнула мама, рассмотрев
подкидыша,— этот будет Гелиогабалом.
Гелиогабал вырос в огромного кота и, при первой возможности, убежал
в поля. Через две недели он вернулся, худой и облезлый, но вскоре
убежал опять, чтобы больше не возвращаться никогда.
— Кончено,— сказала мама,— никаких котов больше.
Мама лишь изредка играла теперь для себя. Рояль стоял в большой
гостиной. Еще до того, как мы въехали в дом, мама распорядилась
обить стены гостиной какими-то специальными панелями и сверху
еще увешала их коврами, чтобы до бабушкиной комнаты доносилось
как можно меньше фальшивых школярских звуков. Каждый вечер, когда
ученики расходились, а бабушка засыпала, мама усаживалась в плетеное,
кое-как починенное кресло и застывала, пристально вглядываясь
в темноту сада. В теплое время года она садилась в саду в шезлонг
и на маленький одноногий столик ставила толстую, неизменно персикового
оттенка свечу, помещенную, во спасение от ветра, в стеклянный
сосуд. Публий располагался у ее ног, положив голову на передние
лапы и закрыв глаза. Я же не решался подойти к ней в эти минуты.
Платья от специальной портнихи большей частью висели без употребления,
а другие износились. Иногда, оставив бабушку на меня и наемную
сиделку, мама выезжала за покупками и, возвратившись с новыми
нарядами, тут же начинала отпарывать от них какие-то лишние хлястики.
— Вот я и вошла в средний класс,— горько сказала она мне, когда
я застал ее как-то за этим занятием,— все дело, видишь ли, в одежде,
а то болталась между богемой, цыганщиной то есть, и великосветскими
приемами.
Мама спохватилась, сказав лишнее, и поспешно замолчала. Но я ничуть
не чувствовал себя ущемленным, сменив жизнь городскую и светскую
на уединенную и почти деревенскую. Вид бутона, медленно распускающегося
на розовом кусте, или букашки, заползающей в бутон, занимал меня
не меньше, чем прежние светские наблюдения. Мне было очень жаль
бабушку, но ее болезнь я воспринимал как что-то безмерно печальное,
но неизбежное. Бабушка — старая,— думал я,— старые люди должны
болеть. К бабушке приходили доктора, но состояние ее не менялось,
и доктора появлялись все реже, сказав, чтобы их вызывали, только
если произойдут какие-нибудь перемены.
Как-то я спросил маму, только что вышедшую из вечерних медитаций:
— Мы будем здесь всегда жить, мама?
— Минута и вечность — одно и то же, сынок,— отвечала она.
Однако, мы едва успели привыкнуть к новому месту и обустроиться,
как над нашим, как называла его мама, поместьем нависла зловещая
тень перемен. Крестьяне перестали появляться на поле, вместо них
бродили сердитые пузатые дяденьки с пузатыми портфельчиками, что-то
вымеряли и ругались так, что шум ругани доносился до наших окон.
И вскоре мы поняли, что происходит. Город, уступивший на время
часть своей территории деревне, требовал ее назад. Мирные тихие
земледельческие машины сменились шумливыми строительными, начавшими
созидание с разрушения, то есть, сразившими добропорядочную горчицу
и покрывшими поле зияющими безобразными ямами. «Как я просчиталась!
— расстраивалась мама, плотно закупоривавшая окна, тщетно пытаясь
бороться с шумом и пылью,— просто, шабаш какой-то». Все та же
всезнающая мама той же музыкальной ученицы, забежав как-то к нам,
рассказала, что этот кусок земли приглянулся строительным акулам,
и крестьянина вынудили продать его, наслав на него кучу комиссий
по контролю качества.
Вскоре были заложены фундаменты, шума стало чуть меньше, и уже
можно было догадаться, что в новом поселении будет два-три дома
повыше и множество мелких, разного калибра. Домики, между тем,
бодро возводились. Вот уже есть не только стены, но и крыша над
ними, вот красят изнутри и убирают мусор, вот мостят дорожки,
и вот, наконец, придирчивые новоселы прибывают осматривать свои
новые резиденции. Ближайший к нам дом был одноэтажный, мутно-розового
цвета, на две семьи, и стоял не более, чем в двух метрах от нашей
ограды.
— Кажется, у нас вот-вот появятся соседи,— сказала мама,— но что
за ужас эти дома!
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

