Via Fati. Часть 1. Глава 22. Двойник
Свое ли место я занимаю? Свою ли роль играю? И, если да (зачем все, если нет?) насколько я адекватен в этой роли? Насколько чутко ловлю я знаки и смыслы? На кого я похож? Чья я обезьяна и кто обезьяна моя? Роман продолжается. Стиль, кажется, тоже.
О кое-каком авторском небытовом опыте читайте в
интервью.
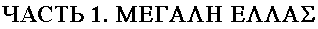 |
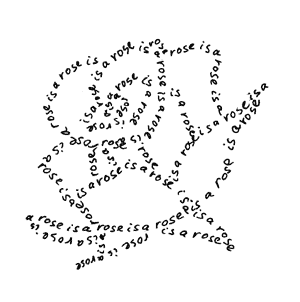 |
Я потерял нить повествования, что-то нарушилось в мыслях, что-то,
обеспечивающее плавность изложения. Что-то не так, закон
уступает перед штурмующими его случайностями. Что-то не к месту,
что-то чужое заполняет меня.
Я давно смутно ощущал, что высшим силам угодно повторять нас не
только во времени, но и в пространстве, и мы — раздвоенные,
растроенные, расщепленно-размазанные, странно идентичные осколки
какой-то монструозной конструкции, несчастные двойники еще
и от этого чувствуем свое несовершенство. Феномен сей более
глубок, чем приевшееся даже Лизе понятие родства душ.
Всякая, чего-нибудь стоящая психе, инкарнируясь, занимает иногда
сразу несколько оболочек, отлитых, для экономии всемирной
энергии или из еще каких-то недоступных моему пониманию
соображений целесообразности по одной форме и окончательно
обтесанных только внешними обстоятельствами.
Мои подозрения приняли гротескную окраску, когда Кора как-то,
курьеза ради, привела мне в гости... меня. Накануне вечером, как
это водилось у нас, она позвонила и сообщила, что у нее есть
для меня сюрприз, да, двуногий, и если я свободен завтра
вечером и ничего не имею против, она придет ко мне с сюрпризом
этим вместе и еще парой персон, призванных разбавить
концентрацию предполагаемой компании. От меня ничего не требуется,
она сама принесет что-нибудь к ужину и приведет дамочку,
которая займется кухней.
Я был не против, и Кора предстала передо мной на следующий вечер с
тройкой приведенных ею гостей.
— Бригитта, Гюнтер, Леонид,— представила Кора гостей.
— Гитти,— манерно выдавила маленькая вертлявая брюнеточка с модной
стрижечкой, кокетливо протягивая мне лапку, а не руку, ибо
«Гитти» означало «Китти».
— Гюнтер,— пробормотал тихий Гюнтер.
Они были молодыми супругами, и оба считали себя, без сомнения,
суперинтеллектуалами. Вечер, проведенный в моем обществе, должен
был занять честное пятое или шестое место в десятке главных
событий их духовной жизни.
— Леонид Чижевский,— представился гость, стоявший позади остальных,
ради которого затевался маленький прием.
Математик-прикладник, имеет степень. Работает в русской глубинке, у нас по
научному приглашению. Красивое греческое имя очень подходило к
внешности, которую я рискнул бы назвать привлекательной, если
бы ее черты не повторяли до невероятия... мои собственные.
— Это первый наш поэт,— представляла меня невозмутимая Кора.
Гость держался бездарно-скованно и его пришлось изрядно взбодрить
крепким спиритуозом, чтобы развязать ему язык.
— Я тоже был когда-то поэтом,— произнес гость на своем скверном с
неприятным, квадратным каким-то акцентом, английском. Несмотря
на скудное знание языка, он отпечатывал каждое слово,
аккуратно расставлял паузы и старался говорить с апломбом,— я был
поэтом до двадцати двух лет, потом я занялся более
серьезными вещами.
Двадцать два года — роковой возраст для поэтов,— печально отметил
я,— одни в этом возрасте начинаются, другие завершаются. В то
время, как я сидел с Корой на острове и мучился своим
перерождением, наш гость тоже мучился, писать ли ему еще, или
оставить детские эти забавы.
Он родился в провинции, он уехал учиться в Москву, учиться
математике, поскольку противно было связываться с идеологией, ему
хотелось жить в Москве, и он приложил все усилия к тому, чтобы
поступить в аспирантуру, и он преуспел в этом, но не смог
больше писать стихов. Когда он окончил аспирантуру и получил
степень, Москва утратила в его глазах привлекательность, он
без сожаления вернулся к себе за Урал, женился на дочери
местного профессора и сам вскоре устроился доцентом. Они вовсе
неплохо жили при коммунизме: квартира, маленький загородный
домик с участком земли, машина... Конечно, были некоторые
ограничения свободы, на Дорогу Судьбы, понятно, не выпускали,
но надо ли это, ненужная это блажь, вроде наркотиков. Да, у
него есть фотографии жены, детей и матери тоже. Я старался
выглядеть безразличным, но не избежал сердечных перебоев,
когда рассматривал эти изображения. Нет, его мать совершенно
непохожа на мою, но она жива и здравствует, так же, как и отец.
Жена круглолицая, очень некрасивая, с глупым взглядом.
Мальчик лет восьми, нелепо постриженный, и девочка лет трех с
дурацкими огромными бантами, похожи на мать. Дешевка,— злился
я.
Гюнтер глубокомысленно сидел на диване и слушал, строя
вежливо-разочарованную мину от того, видимо, что ему была неинтересна
тема разговора. Он должен был лишний раз утвердиться сегодня в
расхожем мнении, что писатели, выплескивая свои восторги на
бумагу, в быту являются людьми скучными, приземленными и
часто даже глуповатыми. Бригитта, явившаяся с твердым
намерением быть душой общества, отважилась даже скорчить
презрительную мину в сторону Коры, которая ее в это общество и привела.
Мина эта означала что-то вроде того, что она, Бригитта,
такая изящная светская кошечка, ростом с девочку, такая
легенькая, Гюнтер готов всегда носить ее на руках, а вот Кора на
голову выше, и слишком громоздка, и Гюнтер не стал бы носить ее
на руках, поэтому она, видимо, так и не обзавелась
собственным Гюнтером, и до сих пор в девушках, фу! Одного взгляда
Коры — взгляда царицы на простолюдинку-недоростка — было
достаточно, чтобы поставить зарвавшуюся Бригитту на место, а
место ей было на кухне. Не скрывая легкой досады, Бригитта
подчинилась. Навестив ее там через четверть часа, я обнаружил,
что она безжалостно и криво кромсает прекрасные свежие стейки,
розовый, с тонкой прозрачной кожицей картофель, нежную
молодую морковь, круглые отборные помидоры, экстравагантно
оранжевые перцы, а заодно и салат-латук, который она приняла за
капусту, и превращает весь этот великолепный, голландской
чревоугоднически восторженной кисти достойный натюрморт во
что-то, не имеющее ни вкуса, ни цвета, ни формы, но зато
предательски источающее горелый дух, что заставляло усомниться в
кулинарных, а заодно и всех прочих способностях светской
кошечки.
— Что это будет? — ужаснулся я.
— Рагу,— пролепетала прелестница тоном, чуть менее уверенным, чем прежде.
Я не отказал ей в праве выставить ее произведение на стол — для
смельчаков, а сам заказал на всякий случай пиццу.
Самое забавное и странное заключалось в том, что Леонид, судя по
всему, не обратил никакого внимания на наше с ним сходство, так
же, как Бригитта с Гюнтером. Они цепляются за аксессуары,
за обрамление,— понял я,— одежду, прическу, выражение лица,
оценить истинную внешность они не в состоянии. Из пяти
человек, проведших совместно вечер, только двое — я и Кора —
поняли его скрытый смысл.
Кора взялась отвезти Леонида к университетскому дому, где он занимал
маленькую квартирку. «Я скоро вернусь»,— шепнула она уходя.
Она поняла, вероятно, что человека, которому указали только
что на его несамодостаточность, на его принадлежность к
малосимпатичному целому, нельзя оставлять одного. Бригитта и
Гюнтер тоже ушли, им было в другую сторону. Итак один — за
Уралом,— сказал я себе, когда за ними закрылась дверь,— где мне
искать остальных? Сидит себе посреди Африки (нужно ли
обьяснять, что двойники могут отыскаться в любом народе, в любой
расе?) какой-нибудь ни к охоте, ни даже к выделыванию копий
непригодный бушмен и тянет заунывную печальную песню о тщете
бушменской жизни, и ничего у него и с этим не ладится,
потому что сейчас мое время и моя очередь петь песни. Но этот,
только что ушедший отсюда, был первым в очереди. Если бы он
не отложил перо десять с лишним лет назад, в России появился
бы очень, вероятно, хороший поэт, мученик, конечно, как все
поэты. А что было бы со мной? — ничего, наверняка,— ничего.
Этому-то человеку — продажному, завравшемуся, не отделяющему
себя от системы, инспирировавшей его падение, я обязан, ну,
скажем нескромно, своей избранностью. «Чиж — маленькая
птичка, которая любит прыгать»,— так, кажется объяснил он
значение своей фамилии. Вот и прыгает, допрыгал довольно далеко.
Если тебе диктуют,— пиши,— продолжал я не слишком веселые
размышления, пытаясь отмыть уничтоженную Бригиттой кастрюлю, это было
невозможно, и я забросил кастрюлю в мусорный мешок,— пиши и
не думай о том, какую практическую пользу принесут тебе твои
писания. Однако, он вовсе не согрешил, пришла мне в голову
новая мысль. Он сошел с пути в самом его начале, ибо
юношеское рифмоплетство — еще не поэзия. Если бы он решил свернуть,
пройдя большую часть пути,— вот это бы не простилось. Может
быть, все это бредни и не более, чем политика,— успокаивал
я себя. Но зачем тогда Кора привела его?
— Он пытался ко мне приставать,— рассказывала она, вернувшись,— ему
и в голову не могло придти, что я отвожу его лишь из
обязанности хозяина перед гостем. Он решил, что я увлечена им, и
весь вечер был затеян только затем, что я набивала себе перед
ним цену, демонстрируя свои шикарные знакомства. Я еле от
него отделалась. Будь он чуть менее пьян, пришлось бы
прибегнуть к помощи полиции. Почему я не усадила его в такси? Я
промахнулась и с этим,— кивнула она на торчащую из мешка
кастрюлю,— будь милостив, прости мне эту Бригитту, кто же знал, что
она окажется неспособной даже к кулинарии.
И мне довелось наблюдать самое экзотичное из всех зрелищ, виденных
мною во всех пяти частях света, исключая Антарктиду, в
которой я никогда не бывал: Кора осторожно извлекла злополучную
посудину и, засучив рукава, принялась усердно драить ее.
— Они не стоят того, чтобы ты нес из-за них материальные убытки,—
прокомментировала она свои действия.
— Признаться, мы примитивнее, чем они,— задумчиво произнесла Кора,
управившись с кастрюлей и став от этого умиротвореннее,— они
лучше умеют идеализировать, не правда ли? Тебе вот не
понравилась его жена на фотографии, я видела, что не понравилась.
А теперь вообрази, что она изысканно воспитана, одета и
причесана у лучших стилистов. Она могла бы выглядеть сносно, не
так ли? Но она одета так, как она одета, и мы с тобой знаем,
что уже ничего не переменишь. А он в ней любит, быть может,
ее идеальный образ, к которому она никогда не приблизится,
а не то, что она дочь профессора. Так и он. Исправь ему
прическу, осанку, приведи зубы в порядок, убери пошлость и
хищность с лица (это, впрочем, сложнее), сам знаешь, что
получится. Но мы с тобой не желаем заниматься этой идеализацией, и
он неприятен нам. Так и получается, что мы материальнее и
примитивнее их.
— Во-первых,— приготовился я возражать, боясь, впрочем,
переусердствовать,— во-первых, ты забыла, как он приставал к тебе, и
теперь готова приписать ему возвышенную любовь к его
собственной жене.
— К жене он испытывает возвышенную страсть, а я — грубая тварь,
противоречия нет,— ухмыльнулась Кора.
— Во-вторых,— продолжал я, демонстративно не слушая ее,— так ты
дойдешь до того, чтобы обьявить возвышенной любовь дикаря к его
дикарке. Дикарь, мол, воспылал страстью к своей избраннице
потому, что она была бы еще прекраснее, если бы ее, как
следует, отмочить в ванне, а не потому, что она дочь вождя. Его,
видишь ли, не волнует идеальный образ его возлюбленной — я
имею в виду и дикаря, и давешнего гостя — его избранница
хороша для него такая, какая она есть. А от склонности к
идеализации нормальные люди остаются безбрачными, а не женятся на
недоделанных уродинах.
— Ты уверен, что в диких странах нет антицелибатного
законодательства? — миролюбиво вздохнула Кора,— вспомни Грецию.
Она осталась у меня в ту смутную ночь. Она дополнила меня до
какого-то нового целого взамен другого, из которого сама же меня и
исторгла не без помощи давешнего гостя. Я страстно любил ее
в ту ночь, и голова моя была блаженно пустой, мне не
хотелось думать ни о чем, тем паче, о химере — будущем. Ни меня, ни
Коры больше не было. Вечность стянулась в миг. Миг был омыт
слезами, но прекрасен. Я полагал естественным, что Кора
теперь со мной и иначе, казалось, и быть не могло. Я любил ее,
и она любила меня, мою бестелесность, не мою первозданность,
а мою отесанность, зачем иначе ей было отвергать притязания
типа, похожего на меня как брат-близнец. Свернувшаяся
клубком вечность пульсировала не вне меня, не внутри, а где-то
рядом, в концентрированном густом пространстве, в котором я
сам растворился без следа.
— Кора, хочешь ли ты быть со мной вечность, вечность? — только и мог
пробормотать я сквозь надвигающееся забытье.
— Вечность уже миновала,— кажется, ответила она.
Продолжение следует.
Оглавление романа Viva Fati:
- Via Fati. Часть 1. Глава 21. Вечные штудии
- Via Fati. Часть 1. Глава 20. Что за книга?
- Via Fati. Часть 1. Глава 19. Стоит ли бегать от собственности
- Via Fati. Часть 1. Глава 18. Горе господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 17. Победа господина Вайнмайстера
- Via Fati. Часть 1. Глава 16. Счастливчик
- Via Fati. Часть 1. Глава 15. Фабиан
- Via Fati. Часть 1. Глава 14. Монастырь
- Via Fati. Часть 1. Глава 13. Конец
- Via Fati. Часть 1. Глава 12. Тилли
- Via Fati. Часть 1. Глава 11. Праведник и блудница
- Via Fati. Часть 1. Глава 10. Измена
- Via Fati. Часть 1. Глава 9. Единственная
- Via Fati. Часть 1. Глава 8. Лиза
- Via Fati. Часть 1. Глава 7. Неожиданные открытия
- Via Fati. Часть 1. Глава 6. Триумвират
- Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
- Via Fati. Часть 1. Глава 4. Греция
- Via Fati. Часть 1. Глава 3. К истокам того, чего никогда не было
- Via Fati. Часть 1. Глава 2. Что-то переменилось
- Via Fati. Часть 1. Глава 1. Поэт и его возлюбленная
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

