Via Fati. Часть 1. Глава 5. Солнце прекрасного дня
|
Мы продолжаем публикацию романа о путешествии поэта и его возлюбленной на греческие острова. Поездка эта, послужившая началу голвоокружительного романа, и сейчас, много времени спустя, занимает важное место в памяти рассказчика. Путешествие в Грецию оказывается попыткой понять себя и своё собственное место в этом мире. Теперь, когда с той, первой поездки в Грецию, минуло много лет, многое кажется странным, неопределённым. Именно поэтому, в канун новой своей поездки, поэт вспоминает о том, как же всё было на самом деле. Напомним, что в то своё давнишнее путешествие поэт отправляется с таинственной девушко й Корой, разгадка тайн которой вполне сопоставима с разгадкой тайн древнейшей цивилизации. |
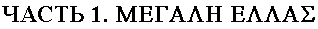
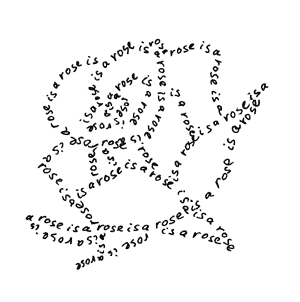
|
Глава 5. Солнце прекрасного дня
Шли дни, а я знал о ней не больше, чем ранее.
На пляже мы познакомилась с немолодым плотненьким господином,
заговорившем с нами на спотыкающемся английском.
— Так мало кругом умных лиц, — жаловался он нам.
— Воистину, — вздохнула Кора.
— Пожалуй, — согласился я, умалчивая о том, что из тех троих, кого
господин выделил из разношерстной толпы курортников, я бы
одного исключил.
Он спросил, не родственники ли мы. Позднее нам часто задавали этот
вопрос, когда мы вдвоем оказывались в обществе. А тогда он
заставил меня призадуматься. Я походил лицом более на мать,
чем на отца и получалось, что я выбрал себе подругу, похожую
на мою мать? Бегай вот теперь от психоаналитиков! Господин
оказался парижским литератором. Кора, похоже, настраивалась на
обстоятельное знакомство и, отвесив тысячу извинений,
полюбопытствовала, не будет ли господину писателю удобнее
говорить по–французски. Он с радостью согласился, и мы перешли на
французский. Уроки бабушки не прошли бесследно, но я вынужден
был признать, что Кора говорит по–французски лучше меня.
Я не отважился признаться в своих литературных амбициях,
отрекомендовавшись всего лишь студентом, не считая, впрочем, что
подобный статус унижает мое достоинство. Не решаясь зваться
поэтом, я по каким–то дикарским причинам также не решался
откровенно разговаривать с профессионалами. Если он писатель, а я
нет, имею ли я право морочить ему голову? Если же я сам
писатель, то этот старый болтун никоим образом не может служить
мне образцом для подражания. Все мои молодые годы, лет этак до
тридцати, меня мучила безумная, так никогда и не
утолившаяся жажда: жажда иметь немолодого мудрого учителя. Но не к
этому же пустозвону проситься в ученики!
— Ах, уважаемый мэтр, — должен был я пропеть ангельским голоском, —
я тоже иногда в мечтах вижу себя писателем, но вправе ли я
так мечтать?
 |
— Вы не знаете жизни, молодой человек, — глубокомысленно пропыхтел
бы он мне в ответ, — не познав жизни, рано думать о
писательстве. Но, так и быть, можете прислать мне ваши опыты.
(Переведя предварительно на французский, хмыкнул бы я.)
Кроме того, прежде, чем решиться на эксгибиционизм и выставить
напоказ свои записки, я ощущал жестокую физическую боль во всем
теле от любых разговоров о литературе. Позднее, когда
писательство свелось для меня к сбрасыванию ненужных, сковывающих
движение оболочек, которые, к счастью, иногда можно было
хорошо продать, я утратил излишнюю литературную
чувствительность. Я не мог понять, что привлекает Кору в этом знакомстве.
Литератор казался мне типом не в меру болтливым и пустым.
Предваряя мои протесты, она объяснилась:
— Любой человек, профессионально работающий со словом, имеет право
на некоторое к себе внимание. К тому же, я не собираюсь
читать его я с ним только разговариваю.
Я не понимал Кору.
— Если этот господин вместо того, чтобы быть страховым агентом, как
пристало ему по его способностям, заделался писакой, то
почему он должен вызывать к себе больший интерес, чем его
несостоявшиеся коллеги страховые агенты?
Не смогли мы избежать и общества наших нордических соседей. Они были
настроены миролюбиво, но вели себя довольно развязно. Все
девицы из этой компании, включая нашу знакомую Саскию,
сводили свой пляжный гардероб к тому абсолютному минимуму, который
они именовали купальными штанишками, и пытались совратить и
Кору, облаченную в основательный пляжный гарнитур. Кора
сопротивлялась, отшучивалась и, наконец, стала располагаться
поодаль от веселой компании, а входившие в компанию юнцы, под
хохот девиц, нахально допытывались у меня через весь пляж,
справился ли я уже кое с чем, и не нужно ли мне помочь.
Молодежь явно начинала зарываться и, призвав на помощь Саскию, судя
по всему, морального лидера компании, мы попытались
заключить мир. Она уверила нас в том, что ее друзья не имели в виду
ничего плохого, собственно, только одна девочка и один
мальчик из компании — ее старые друзья, а с остальными она
познакомилась уже тут. Был еще один мальчик, но он влюбился и ушел
„туда” — Саския кивнула на серый отель. Она и ее друзья
работают по семи месяцев в году, чтобы оставшиеся пять
проводить в теплых краях. Они уже были на Ривьере и в Испании, на
будущий год собираются на Святую Землю.
Саския, в которой было что–то фундаментальное, честное,
основополагающее, неизменно ассоциировалась у меня с исторгнутым из
глубины Вальгаллы кристаллом, выросшим вокруг крупинки
предвечного ядра справедливости, по недоразумению расколовшегося в
незапамятные времена. Слишком часто то, что считает хорошим и
правильным такая Саския, становится хорошим и правильным для
многих других людей. Наверняка, не все ее приятели и
приятельницы приехали сюда, испытывая готовность, — оставим в
покое эвфемизмы — предаться свальному греху. Но достаточно
одного взгляда на такую Саскию, источающую сладострастие, хорошее
и правильное сладострастие, потому что это от нее, хорошей
и правильной, оно исходит, и губы тянутся к ее губам, а
потом и ко многим, многим другим губам. Достаточно одного
взгляда на Саскию, освободившуюся от пут одежд, жадно
подставляющую себя солнцу, и с тела опадают, испепеленные солнцем и тем
огнем, которым пылает теперь тело, покровы, и это хорошо и
правильно, поскольку искра, поджегшая тело, исходила от нее,
хорошей и правильной. Только с ней самой солнце ничего не
может поделать, как ни старается ее обжечь, и ее собственный
огонь, который в состоянии подпалить весь мир, ей самой не
страшен. Стоило ей всего один день не подставлять себя солнцу,
и тело ее возвращало привычный молочно–белый оттенок.
Я же смотрел на нее и благодарил Фортуну и Кору за то что обе они
спасли меня от соседнего вертепа, в который я неминуемо бы
угодил, если бы не их нежное участие во мне. Те мальчики и
девочки, не отличающие Артаксеркса от Аристотеля, которым нет и
не может быть дела до ионических тонкостей, что за общество
они для меня? И не было бы спокойных вечеров на артистичной
нашей веранде, вожделенных прикосновений пера к гладкой,
покорной поверхности бумаги, а были бы угар, безумие и дурная
болезнь впридачу.
Саския, судя по дальнейшему, сделала все же внушение своим
приятелям. Выпады прекратились. Мне казалось немного странным, что
Кора без излишних эмоций относится к этому беспокойному
соседству. Если она с таким раздражением восприняла просвещенного
Ганса, то эти дикари дожны бы ее просто бесить. Я даже
спросил ее, не докучают ли они ей.
— Нет, нет, — уверяла она меня, — они вполне адекватны здесь:
полевые цветы под солнцем. На них почти приятно смотреть, пока они
не увяли. Не нужно позволять им фамильярничать — вот и все.
Мы стали мирно соседствовать, даже одаряли время от времени друг
друга фруктами. Как–то они пригласили нас курить травку.
— Нет, мне нельзя, — сказала Кора, не отказывавшая себе в вечерних
«пустых» сигаретках, — а тебе, быть может, и стоит поглядеть
на пьяных илотов. Но, сделай милость, не переусердствуй. —
Она удалилась в приморское кафе вести литературные беседы с
парижским беллетристом и еще несколькими прибившимися к ним
интеллектуалами, предоставляя мне самому выбрать, как и с кем
провести вечер.
Приглашение не представлялось безусловно соблазнительным, однако, я
знал, что, не прими я его, и будет упущено что–то, само
шедшее ко мне. Я выждал с час и пошел к соседнему дому,
хладнокровно рассуждая, что это тоже нужно увидеть: голую, прошу
прощения, вакханалию, не отягощенную ни излишней
просвещенностью, ни излишней красотой. Обстоятельства сложились таким
образом, что прежде мне не приходилось наблюдать ничего
подобного и пробовать наркотики. «Никогда не прибегай к наркотикам,
даже в шутку, из любопытства, — неоднократно повторяла мама,
— никогда не прибегай к ним, хотя бы пока не станешь
взрослым». Я успел познать любовь и безразличие, свободу и
несвободу, вдохновения и рутину. Я стал, наконец, взрослым, понял
я, теперь я могу попробовать и это, не нарушая слова.
Чугунная ограда веселого дома была приоткрыта. Я скользнул внутрь,
прошел через темный сад, через сумрачное великолепное
запустение старого дома. Бог Аполлон, не оставляй меня, сейчас на
моих глазах развернется чуждое тебе действо, но я не думал
предавать тебя! — наивно взмолился я и вступил в комнату, в
которой происходили главные события. Было темно, только
горевшая в коридоре одинокая обнаженная лампочка слегка освещала
пространство.
Действо было в разгаре. Здесь не только травка, не составило труда
догадаться мне. Я выкурил протянутую кем-то сигарету и минут
на десять присел в углу, наблюдая за происходящим. Никто не
замечал моего присутствия. Зрелище не трогало. Все
происходило так, как это можно было вообразить. Я пытался холодно
проанализировать свои ощущения. Забьет ли внутри меня мощная
струя, которая заставит броситься в центр событий?
Воздействуют ли на меня пары блуда, густо клубившиеся в комнате?
Из всех соседок–менад одна Саския сколько–нибудь волновала мое
мужское воображение. Ей одной стоило демонстрировать свое тело.
Сейчас она лежала на пляжной подстилке, брошенной на грязный
пол, в объятиях кудрявого, транссильванского типа юнца. Она,
сквозь темноту комнаты, почувствовала мой взгляд и ответила
ясным, вовсе не затуманенным наркотиками и даже похотью,
взором, который выражал, казалось, готовность. Готовность к
чему? — не понял я. Уделить внимание и мне, если я шлепнусь
рядом? Бросить своего красавца, если я позову ее? Между тем,
это занятие не украшает ее, тело как–то размякло и утратило
законченность форм, заключил я, с минуту поразмышлял над тем,
хочу ли я занять место удачливого любовника, да и ушел к
себе.
Меня слегка подташнивало от сигареты, иного действия она не
произвела. Кора уже была дома и, ни о чем не спрашивая, подала мне
стакан молока.
Однажды она ушла куда–то утром, оставив меня досыпать во флигельке,
но мне не спалось, и я выбрался на веранду с книгами,
рукописями и бутылкой минеральной воды. Какая–то молодая парочка
обеспокоенно обсуждала за забором что–то по–итальянски.
Через минуту дуэт превратился в трио, и этот третий, вступивший
голос был таким юным и свежим, так подавлял своими колоратурными
переливами базарные обертона двух предыдущих, звучал так
нежно и обреченно, что совсем иные слова надстояли над прозой
обсуждаемой за оградой темы:
|
Di lieto giorno un sole Forse per noi spuntо1 |
То был голос Коры, говорившей по–итальянски.
Войдя в сад и увидев меня на веранде, с головой, мокрой от
минеральной воды, которую я на себя вывернул, с кругообразными
разводами от водяных брызгов на рукописи, обнажающими синюю
сущность черного цвета, Кора инстиктивно сжалась, и взгляд ее на
доли секунды отобразил ужас. Если бы она знала, что я уже не
сплю и сижу на веранде, она никогда не стала бы в трех
метрах от меня говорить по–итальянски, по крайней мере, со столь
обнаженными интонациями.
Мы вовсе не все время проводили вместе. Иногда, ссылаясь на головную
боль, она оставалась на острове, в то время, как я
усаживался на корабль и куда–нибудь уплывал. Я не знал, чем она
занималась в мое отсутствие.
— Не хочется ли тебе, подобно некоему царю, провести жизнь между
островами? — спрашивала она меня по вечерам, когда я
возвращался.
— Я предпочел бы обьятия Кирки, — отвечал я, освобождая ее от одежд.
И в самом деле, я все чаще отдавал предпочтение прибрежным радостям.
Я испытывал все же некий дискомфорт от того, что на теле
моей подруги оставались предательские, довольно широкие белые
полосы, в то время, как тела распутных наших соседок были
равномерно смуглы. Я обследовал окрестности и обнаружил, в
километре от основного, крошечный, упрятанный между скалами
пляжик. Я уводил туда Кору, и там, не считая нужным прятаться,
она открывала моим и солнца похотливым взглядам то, что было
закрыто для прочих. Мы заплатили хозяину еще за неделю,
потом еще за неделю, и не хотелось нам уезжать с острова.
Кора купила как–то в лавке большой кусок тонкого голубого полотна и
второй, поменьше, бледно–золотистого цвета, и еще какой–то
золоченый шнурок. Она встала перед большим, в темной раме,
зеркалом, о ценности которого хозяин, судя по всему, не имел
ни малейшего представления, раз оставил его висеть в
отдаваемом внаем флигеле. Закрепив на обнаженных плечах голубую
ткань, нижний край которой мягкой волной стелился по полу, она
свернула золотистую пышным жгутом, обернула его вокруг бедер
и оставшийся конец перебросила через правое плечо. В
довершение, она кое–где перехватила долго и тщательно
воздвигавшееся сооружение золоченым своим шнурком; с минуту, застыв с
поднятыми вверх руками: левая — чуть пониже, правая — чуть
повыше, разглядывала себя в зеркале и, наконец, решительным
движением, спустила одеяние с левого плеча, обнажая при этом
левую же грудь.
— Так тогда носили, — шутливо–извиняющимся тоном проговорила она.
И не это ли было кульминацией действа?
На нее было приятно смотреть, но зрелище не представилось мне
образцом высокого вкуса. Изображать ожившую статую? Я не
сомневался, что этим время от времени занимаются и наши соседки,
закручиваясь в антрактах любовных игр в какие–нибудь мятые, в
следах возлияний, простыни.
Мне казалось, она недооценивает меня. За всеми ее пристрастиями и
отторжениями, за каждым ее жестом, за ее полиглотством, за ее
ранней зрелостью чувствовались какие–то сверхмудрые учителя,
какие–то закрытые элитарные школы, ограждающие своих
питомцев от разлагающе–вульгарного влияния мира. В таких школах
вызревают, не зная мира, но окончив их, выходят в мир,
свободными от его пороков и прекрасно зная цену вещам.
А я, увы, был выпускником обычной школы, в которой нужно было быть
морем, а не мальчиком, чтобы не загрязниться. Дешевым приемом
я попытался набить себе цену, произнеся:
— Почему я не унаследовал дар своего отца? — Я был доволен тогда
этим риторическим вопросом–ловушкой. Он был призван, во–первых,
проверить степень истинной осведомленности Коры. Она явно
располагала более обширным знанием, чем то, в котором
соглашалась сознаться. Возможно, по факультету расползлись
какие–нибудь слухи, хотя я носил фамилию матери, а не отца. Если же
она не имела понятия о том, чей я сын, то это патетическое
восклицание должно было вызвать ее почтение к моему
королевскому инкогнито.
Во фразе содержался и еще один скрытый смысл. Мой рано умерший отец,
бывший в течение короткого времени очень модным художником,
отличался весьма небрежной манерой письма. Он обычно писал
толстыми, почти малярными, кистями и проводил за работой над
очередным полотном не более четырех–пяти часов, интересуясь
только квинтэссенцией цвета и легкими намеками на
пропорции. Неоэкспрессионизм, — пожимали плечами злопыхатели, но отец
был самобытен.
В его исполнении картина «Кора в античном одеянии перед зеркалом»
выглядела бы примерно так: жирный коричневый прямоугольник,
располагающийся параллельно раме картины, — рама зеркала;
внутри прямоугольник залит металлической краской, — поверхность
зеркала; на этом фоне большое розовое пятно, содержащее в
себе пятно поменьше — голубое, над ними черный круг Кориной
головы (я полагаю, даже моему бедному папе не хватило бы духа
отказать Коре в наличии головы); и широкая золотистая полоса
перечеркивает все по диагонали. На всей картине было бы,
таким образом, только два темных пятна: зеркальная рама и
Корина голова, второе внутри первого, и шарлатаны от
искусствоведения исписали бы тома, истолковывая феномен.
И еще одна, более тонкая аллюзия заключалась здесь. Быть может,
наряд, который она скопировала с какого–нибудь античного
изображения, носила крестьянка или рабыня, а вовсе не аристократка,
и наряд этот в то время считался грубым, и только мы,
варвары, находим в нем красоту, которая в глазах современников
вовсе не обязательно была ему присуща. Но и я сам не совсем
варвар и не вполне умею наслаждаться этой простой красотой, и
никак не могу сладить с этим без помощи отца, человека
низкого происхождения. Но эта помощь никогда не подоспеет ко мне,
поскольку отец мой давно умер, и, значит, все безнадежно.
Эту–то, коктейль смыслов содержащую идиотскую сентенцию я и выдал
тогда, вместо того, чтобы приближаться медленно, не прерывая
созерцания, к подставленной моим губам груди. Она двинула
голым плечиком и стала разматывать драгоценные,
трехтысячелетней патиной подернутые материи, которые через минуту стали
случайными провинциальными тряпками, унылыми кучками
возвышающимися на не особенно чистом полу.
Она дулась на меня целые сутки, я вымолил прощение, но никогда
больше не притрагивалась она к тем кускам материи. Я сам поднял
их с пола и положил в шкаф, среди ее вещей, вряд ли она
увезла их с собой.
Прогуливаясь спустя несколько дней по острову, мы заметили на склоне
холма живописную оливковую рощицу. Зрели маслины, обещая
стать черными, и мне отчего–то невыносимо захотелось сорвать
оливковую ветвь. Я старательно подавлял преступное намерение,
но варварские наклонности возобладали над
благовоспитанностью, и я уже протягивал руку над низенькой изгородью, когда
заметил груды срезанных ветвей, лежащие под деревьями. «Я
стремлюсь к малому и прибегаю к насильственным средствам,
небеса дают мне много и щедро, и даром», — восхитился я. Роща
оказалась не рощей, а садом, а ее неведомый мизантропичный
хозяин — варваром почище меня, обрекшим на умирание сотни
ветвей, а не одну–единственную, которую ее избранность,
безусловно, наделила бы особым значением. «Видишь, там дом”, — кивнула
Кора на маленькое пятнышко, белеющее в глубине сада. Я
взглянул на нее вопросительно, она, театрально изобразив
смущение, кивнула, и, через несколько мгновений, с пуком похищенных
оливковых ветвей в руках, мы улепетывали от поместья
варвара–мизантропа. Удалившись на безопасное расстояние, я вручил
ношу Коре, оставив себе единственную ветку.
«Una Furtiva Lagrima»2, — выпевал я, забравшись на большой камень и
дирижируя себе веткой. Кора внимательно слушала; не уличив
меня в фальши, усмехнулась, и, взявшись за руки, мы побрели к
морю.
1. «Солнце прекрасного дня, вероятно, зашло для нас». -
хор из оперы „Набукко“.
2. «L’Elisir d’Amore», Donizetti
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

